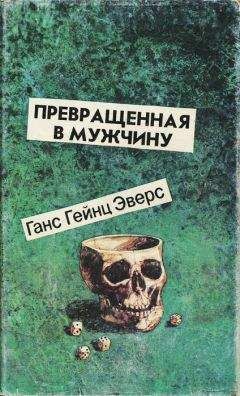Джордж Оруэлл - Да здравствует фикус!
Он повернулся и пошел к воротам. Под чужим взглядом следовало удаляться небрежной походкой, с видом легкого, даже позабавившего разочарования. Но он, дрожа от ярости, почти не управлял собой. Сволочи! Погань драная! Сыграть с ним такую шутку! Взгляд упал на изящную цепочку камушков — выбрать бы потяжелее и швырнуть, чтобы стекла вдребезги! Он с такой силой ухватился за ржавый прут ворот, что ободрал, едва не рассадил ладонь. И полегчало. Боль в руке отвлекла от мук душевных. Не просто поманившая и обманувшая надежда провести вечер в человеческой компании, хотя и это было много. Главное — унизительное чувство беспомощности, своей жалкой ничтожности, не дающей повода вспомнить о тебе. Отменив прием, даже не потрудились сообщить, всех известили, только не его — вот что приходится съедать, если пусты карманы! Запросто, не задумываясь, плюнут в морду. Мысли о том, что Доринг, возможно, искренне, без тени дурных намерений, позабыл или случайно спутал дату в приглашении, Гордон не допускал. Ну нет! Доринг сделал это сознательно. Намеренно! Денег нет, так обойдешься, тля ничтожная, без любезностей. Сволочи!
Он быстро шагал. В груди болезненно кололо. Культурный разговор, культурное общение! Ага, короноваться не желаешь? Придется вечер провести как обычно. Розмари еще на службе, да и живет она в Западном Кенсингтоне, в женском общежитии, куда вход перекрыт сторожевыми ведьмами. Равелстон живет поближе, возле Риджент-парка, но у богатого человека масса светских обязанностей, его дома практически не застанешь. Невозможно даже сейчас позвонить ему, нет двух пенни, осталось полтора пенса и «везунчик». И как без гроша сходишь повидаться с Равелстоном? Тот обязательно предложит «зайти куда-нибудь», а разрешать ему покупать выпивку нельзя. Дружба с ним требует абсолютно четко обозначенного — каждый платит за себя.
Гордон достал свою единственную сигарету и чиркнул спичкой. Курить на ходу не доставляло никакого удовольствия; пустая трата табака. Шел он без цели, куда ноги несли, лишь бы усталостью потушить обиду. Двигался куда-то в южном направлении — сначала пустырями Камден-тауна, потом по Тоттенем-корт-роуд. Уже стемнело. Он пересек Оксфорд-стрит, миновал Ковент-гарден, вышел на набережную, перешел мост Ватерлоо. К ночи стало заметно холодать. Гнев постепенно стихал, но настроение не улучшалось. Терзала постоянно осаждавшая мысль, от которой он нынче сбежал, но от которой никуда не деться. Его стихи. Бездарные, тупые, бесполезные! Неужели он хоть на миг в них поверил? Можно ли было убедить себя в каких-то надеждах относительно «Прелестей Лондона»? Гордона передернуло. Состояние напоминало утро после пьянки. Сейчас он доподлинно знал, что ни в стихах его, ни в нем самом нет никакого смысла. Поэма останется лишь кучей мусора. Да проживи он еще сорок сотен лет, не написать и одной стоящей строки. Ненавидя себя, он мысленно повторял, скандировал последний сочиненный кусок. Расщелкался, щелкунчик! Рифма к рифме, трам-блям, трам-блям! Гремит пустой жестянкой. Жизнь потратил, чтобы наворотить такой навоз.
Он уже прошел миль шесть-семь. Ноги устали, и ступни горели. Теперь он находился где-то в Ламбете, в трущобах узких, грязных, тонувших во тьме улочек. Фонарные лампы, мерцая сквозь сырой туман редкими звездами, ничего не освещали. Гордона начал мучить голод. Торговые кафе соблазняли аппетитными витринами и надписями мелом: «Крепкий двойной чай. Только свежая заварка». Но только мимо, мимо, со своим дурацким неразменным трехпенсовиком! Под какими-то гулкими железнодорожными аркадами он выбрался к мосту Хангерфорд. На воде качались помойные отбросы туземцев Восточного Лондона: пробки, лимонные корки, горбушки хлеба, разбитые бочки, всякий хлам. По набережной он зашагал к Вестминстеру. Шурша ветвями, пронесся сильный порыв ветра. Налетчиком лютым, неумолимым… Гордон скрипнул зубами — заткнись! Хотя уже стоял декабрь, несколько старых измызганных оборванцев укладывались на скамейках, обертывая себя газетами. Гордон равнодушно скользнул глазами: обленившиеся попрошайки. Может быть, сам когда-нибудь докатится. Может быть, так оно и лучше. Чего жалеть заматеревших нищих бродяг? Срединно-средняя мелюзга в черных отглаженных костюмчиках — вот кто нуждается в сочувствии.
Он был уже у Трафальгарской площади. Как-то убить время. Национальная галерея? Да ну, давно уж заперли. Куда податься? Четверть восьмого, до отбоя еще часы и часы. Медленно шаркая, он семь раз обошел площадь: четыре раза по часовой стрелке, три раза обратным ходом. Ступни просто пылали, пустых скамей было полно, но ни садиться, ни останавливаться нельзя — тут же начнет душить тоска по куреву. Кафе на Чаринг-кросс манили, как сирены из морских волн. Каждый хлопок стеклянной двери обдавал ароматом пирожков. Он почти сдался. Ну а что? Целый час в тепле, чай за два пенса и пара булочек по пенни. У него же, с «везунчиком», даже на полпенса больше. Проклятый медяк! Девка в кассе захихикает. Ясно увиделось, как она, вертя его «везунчик», подмигивает товарке-официантке. И обе знают, что это его последний грош. Забудь, не выйдет. Топай дальше.
Высвеченная ярким мертвящим неоном улица кишела людьми. Гордон протискивался — хилая фигурка с бледным лицом и взъерошенной шевелюрой. Толпа спешила мимо; он сторонился, его сторонились. Что-то ужасное есть в оживленном вечернем Лондоне: черствость, безличность, отчужденность. Семь миллионов человек снуют в толпе, замечая друг друга с обоюдным вниманием рыб в аквариуме. Встречалось немало симпатичных барышень. Глядели они нарочито строго или в сторону — пугливые нимфы, боящиеся мужских взглядов. Девушек с кавалерами, заметил Гордон, гораздо меньше, нежели бегущих одиноко либо с подружками. И это тоже деньги. Много ли красоток готовы сменить отсутствие кавалеров на неимущего дружка?
Из открытых пабов струился запах пивной свежести. Парами и поодиночке народ спешил в двери кинотеатра. Остановившись перед завлекательной витриной, Гордон под наблюдением усталых глаз швейцара принялся изучать фотографии Греты Гарбо в «Разрисованной вуали». Страшно хотелось внутрь, не ради Греты Гарбо, а, уютно облокотившись, передохнуть на плюшевом сиденье. Гордон, конечно, ненавидел фильмы и в кино, даже когда мог себе позволить, ходил редко. Нечего поощрять искусство, придуманное вместо книг! Хотя некую притягательность киношки не оспорить. Сидишь с комфортом в теплой, пропахшей сигаретным дымом темноте, безвольно впитывая мигающий на экране вздор, отдаваясь потоку ерунды, пока не утонешь в этом дурмане, — что ж, вид столь желанного наркотика. Подходящий гашиш для одиноких. Ближе к театру «Палас» караулившая в подворотне шлюха, приметив Гордона, вышла на тротуар. Коренастая итальянская коротышка, совсем девчонка, с огромными черными глазами. Миленькая и, что редкость у проституток, веселая. На миг он замедлил шаг — девчонка глянула в готовности ответить щедрой улыбкой. Что, если заговорить с ней? Смотрит так, будто способна кое-что понять. Не вздумай! Ни шиша в кармане! Гордон быстро отвел взгляд, устремившись прочь пуританином, коего бедность обрекла на добродетель. Вот бы она рассвирепела, потратив время, а затем узнав, что джентльмен не при деньгах! Шагай, шагай, братец. Нет денег даже поболтать.
Обратно через Тоттенем-корт он тащился, еле передвигая ноги. Десять миль по уличному камню. Мимо бежали девушки, много девушек — с парнями, с подругами, в одиночку; жестокие молодые глаза, не замечая, глядели сквозь него. Уже надоело обижаться. Плечи согнула усталость, он больше не старался держать спину и гордо задирать подбородок. Ни одна не посмотрит, не оглянется. А разве есть на что? Тридцать скоро, кислый, линялый, необаятельный. Какой барышням интерес тебя разглядывать?
Вспомнилось, что давно пора домой (мамаша Визбич ужин после девяти не подавала). Но возвращаться в пустую холодную пещеру — вскарабкаться по лестнице, засветить газ, плюхнуться перед столом и звереть, поскольку делать нечего, читать нечего, курить нечего, — ох, нет, ни за что. Несмотря на будний день, пабы Камден-тауна были набиты битком. Возле двери болтали три толстухи, похожие на кружки в их грубых обветренных руках. Изнутри неслись хриплые голоса, пивной запах и клубы дыма. Флаксман небось сидит в «Гербе». Может, рискнуть? Полпинты горького три с половиной пенса, а в кармане даже четыре и полпенни, с «везунчиком». В конце концов, «везунчик» — законное средство платежа.
Жажда уже просто доконала, не надо было позволять себе думать о пиве. Подходя к «Гербу», он с улицы услышал гремевший внутри хор. Большой нарядный паб сиял, казалось, особенно ярко. Десятка два осипших мужских глоток ревели:
За ‘рруга чашу подымай,
За ‘рруга чашу подымай,
За ‘рруга доррого-ого!
И за ‘ссех нас по кругу!
Дикция певцов, правда, оставляла желать лучшего; текст звучал, булькая со дна выпитого пивного моря. Сразу виделись налитые багрянцем лица сорвавших хороший куш водопроводчиков. Но пели мастера иного ремесла. В баре имелась задняя комната, где собирались для своих секретных совещаний крутые парни, и, несомненно, это громыхал праздник «быков». Видимо, чествуют своего Главного Парнокопытного, или как там у них. Гордон заколебался: в бар, а может, в общий зал? В баре бутылочное, в зале разливное — лучше в зал! Он пошел к другой двери, следом не совсем членораздельно неслось: