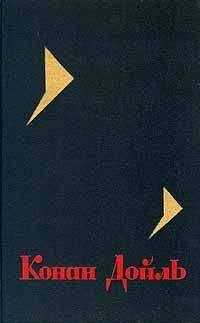Геннадий Гор - Факультет чудаков
— Нет, не к докладу. Эти книги я принес для регулярных занятий.
— Ты? Будешь учиться? Да откуда у тебя время?
Лузин вытянул под столом ноги. Он зевнул.
— Времени теперь у меня сколько угодно. — Он раскрыл одну из книг. В руке у него был только что очиненный карандаш. Новая тетрадь в клеенчатом переплете лежала перед ним. — Я чувствую себя как мальчик. Прямо поразительно. В детстве меня радовал каждый новый карандаш, приобретенный мною. Или красивая бутылочка чернил, непременно фиолетовых. Что может быть приятнее новой, еще не откупоренной бутылочки фиолетовых чернил? Теперь то же самое.
— Я ничего не могу понять. Действительно, ты похож на мальчика. Председатель стипендиальной комиссии, — передразнила она его, — секретарь по студенческим делам… Да тебе не хватит времени для того, чтобы прочесть и двадцати страниц.
— А времени теперь у меня сколько угодно.
Он начал быстро что-то записывать.
Зоя сердито отвернулась. Она читала книгу.
— И все-таки, — прерван молчание Лузин, — мне предстоит много работать, чтобы сдать «хвосты».
— Да, ты человек «хвостатый», — насмешливо сказала она, — но только тебе от них никогда не избавиться.
Лузин отбросил карандаш. Тень от карандаша упала на раскрытую тетрадь. Профиль Зои на стене (растрепанные волосы, увеличившийся нос) показался ему незнакомым. Лузин повернул голову к жене. Ее лицо, постоянно улыбающееся, было сейчас необыкновенно неподвижным.
— Я тебе не сказал главного. Очевидно, ты догадалась сама. С этого дня я больше не председатель стипендиальной комиссии и не секретарь по студенческим делам. Я освобожден от всех нагрузок по собственному желанию. Как ты на это смотришь? Теперь я совершенно свободен. Могу и буду заниматься.
Он посмотрел на жену с некоторой тревогой.
С застывшим видом она глядела в книгу. Прошло пять, прошло десять минут. Она встала. Она подошла к нему. Она спросила (голос ее представился ему незнакомым, чуть визгливым):
— Что же, дезертируешь? Уходишь от общественной работы? И будешь учиться в свое удовольствие?
Она отошла от него. Она надела пальто, медленно обвязала голову платком и вышла.
«Да, — подумал он с неожиданной гордостью, — я был прав, когда говорил, что даже жена, моя жена, назовет меня дезертиром. Я был прав».
* * *Он почти ничего не видел. Какой-то невидимый предмет преградил ему путь. Его пальцы при прикосновении почувствовали холод. Очевидно, предмет был металлическим. Он свернул влево. Его шаги то были мелкими, то внезапно крупными, словно он прыгал по болоту. Затем на него упал экспонат. Ужасный запах, похожий на запах нафталина, защекотал у него в носу, как дым. Он почувствовал на лице пыль. Нет, то была не пыль. То были перья. Уткин отчетливо это ощутил. Он был весь покрыт перьями и пухом, точно сам превратился в птицу. Перья попали за воротник его рубахи. По всей вероятности на него свалилась птица, быть может, тропическая — какаду или страус.
Он послужил причиной гибели редкого экспоната. Он уже видел газету с крупным заголовком: «Вандал в Зоологическом музее» или что-нибудь подобное. Отодвинув ногой птицу в сторону, он пошел дальше. Его влекло в недра музея. Он вошел в следующую комнату. Здесь было светлее. Над ним, видел он, были занесены клювы бесчисленных птиц. Хищники — кондор, орел, ястреб — парили под потолком, широко раскрыв крылья.
Он шел дальше. Собственно, он не знал, зачем шел. Птицы кончились. Змеи, чуть видные, казалось, висели в воздухе (стеклянных банок не было видно). Крокодилы и ящерицы летали как птицы. Рыбы плавали на одном уровне с его лицом. Внезапно Уткин вспомнил всю экскурсию с самого начала. Профессор и студенты, вспомнил он, шли впереди. Он отстал. Дальше начинался кошмар. Он ощущал себя по меньшей мере преступником: мерещилась упавшая птица.
Появилась луна. Рыбы и змеи невыносимо блестели своей чешуей при лунном свете. Брезгливость и страх крестьянина перед гадами возник в Уткине и вырос в ужас.
Он побежал назад. Споткнулся, упал на птицу, которую он только что уронил. Под ним лежал огромный экспонат, несомненно, страус. Его лицо касалось клюва. Он встал, стряхнул с себя перья. Он взял себя в руки. Поправил ремень. Теперь он пошел в правую сторону.
При слабом свете он узнал медведя, стоявшего с раскрытой пастью. Он обрадовался ему, как товарищу, однокурснику. Он пошел прямо на медведя. Еще немного, и он протянул бы ему руку. Перед ним из темноты возник другой экспонат, огромный как холм. Уткин приблизился. Экспонат выделился из темноты и принял форму мамонта.
Уткин уселся у подножия мамонта. Он устал. Его, голова оперлась на что-то шершавое, быть может, на ногу мамонта.
«Теперь, — решил Уткин, — можно спать, спать…»
VПрофессор протянул ему через стол руку. Она оказалась неожиданно мягкой, точно рука девушки.
— Прежде всего садитесь.
Кабинет не был угрюм. Над столом в светлой раме текла река и мальчик удил рыбу.
Великанов поразился обилию вещей. Множество всяких безделушек, раковин, пепельниц, чернильниц. На столе стояла свеча. В ней не было необходимости: светило электричество. В комнате не было стен. Их заменяли шкафы с книгами.
— Прежде всего садитесь, — повторил профессор и подвинул к Великанову кресло. — Я сейчас вам ее покажу. Опасаюсь — влюбитесь.
— Не влюблюсь, — ответил Великанов и при этом покраснел.
— А вдруг влюбитесь. — Профессор вышел из кабинета.
Великанов ждал. Он встал. Подошел к шкафам, взял одну из книг посмотреть. Положил книгу на место. Он ждал с нетерпением. Вот она появилась. На цыпочках вошел профессор. Он нес банку.
— Позвольте представить, — сказал профессор и осторожно поставил банку на стол. — Позвольте представить вам, — обратился он к Великанову. — Жанна. Родом из Сибири. Девица.
— Очень приятно. — И Великанов подвинулся к столу.
В банке сонно плавала Жанна. У ней был странный полу-фантастический вид. Совершенно непропорциональная, необыкновенного полу-оранжевого цвета, в воде она выглядела как рисунок, нарисованный художником-экспрессионистом.
— Имя ей дал я, — пояснил профессор. — Она у меня второй месяц.
Великанов поднял со стола банку и, держа ее на уровне глаз, поднес к свету. Он смотрел на рыбу не отрываясь.
— Да, — с волнением сказал он. — Этому не сразу поверят. Тропическая рыба — в Сибири!
— Тропический экземпляр, — сказал профессор с необыкновенным волнением и гордостью, — тропический экспонат, тропическая рыба в Сибири! — Они помолчали. Затем профессор встал — протянуть руку Великанову. На этот раз Великанов не заметил, что она была мягкой.
— Я поручаю ее, — сказал профессор, — вам. Только вам ее могу доверить со спокойным сердцем. Только вам!
Медленно спускаясь по темной лестнице, прижимая банку к груди, Великанов уносил домой Жанну.
* * *В носках и в нижней рубашке Ручеек сидел за столом, описывая студенческий быт фиолетовыми чернилами.
«Студенту Бабкину отказали в стипендии. Он пошел к бюрократу товарищу Паукову ударить кулаком об стол и спросить, на каком основании».
«Маруся, товарищ Булкина, активный работник, поджидала его у ворот с тем, чтобы посоветовать ему поступить на завод. Он встал к станку. Тем временем она разоблачила товарища Паукова и вышла замуж за Бабкина. Они венчались в загсе и оттуда пришли в университет — получать стипендию за три года».
Я вошел к Ручейку.
— А, — обрадовался он моему приходу, — ты? Хочешь, я прочту тебе новый рассказ.
Он прочел.
— «Студенту Бабкину».
— Ну, как, — спросил он — ничего?
— Не очень.
— Знаем мы вас, молодых попутчиков. Вам все не очень. Вот ты попутчик, хотя и притворяешься пролетарским писателем, состоишь в ассоциации. Знаю я твою повесть. О нас пишешь. Читал ты мне. Думаешь — фактическая проза. Ошибаешься — анекдотцы!
— Почему анекдотцы?
— Очень просто. Ты как рассуждаешь? В мире все люди чудаки. Эксцентрики. Не чудаки же и не заслуживают, чтобы о них писали. Студенческое общежитие, университет получается у тебя — клуб чудаков. Уткин — чудак. Замирайлов — чудак. Крапивин — чудак и сволочь. Незабудкин — чудак, арап, пьяница. Только Зоя и Лузин не чудаки. Но они и вообще не люди. Они у тебя не получились. Их нет! Может быть, только я не чудак? — застенчиво спросил он. — Но ты так мало обо мне пишешь. Пиши обо мне больше. Вот я тоже буду скоро писать роман (не этот, это рассказ). Из студенческой жизни. Вот это будет роман, так роман, не то что твоя повесть.
— Оставим в покое русскую литературу, — сказал я Ручейку с шутливым пафосом, — и пойдем шататься. Небо красиво. Луна красива. Ночные улицы прекрасны.
— Ночные улицы прекрасны, — повторил за мной Ручеек.