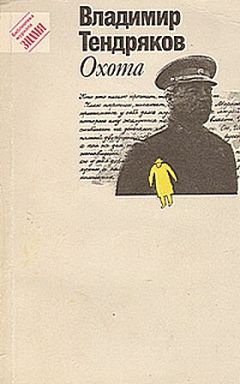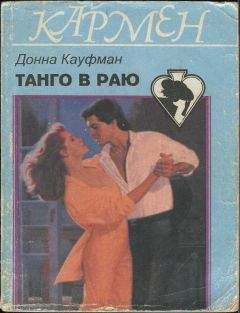Стефан Хвин - Гувернантка
Письмо
Панна Эстер внезапно просыпалась, с минуту, будто отыскивая что-то в памяти, всматривалась прищуренными глазами в кроны лип за окном, говорила что-то о Кораблеве — помощнике почтмейстера, а когда мы успокаивали ее, что письма, которых она ждет, непременно придут, спрашивала, горит ли уже свет в каком-то доме на Фрауэнгассе, повторяла: «Мы можем встретиться на Лангермаркт, только не забудьте, в три…», просила ничего не писать матери, потом, устав, засыпала, сунув руку под мышку, под одеялом, которым ее укрывала панна Розвадовская, забывалась глубоким, тяжким сном, с капельками пота на лбу.
Ян посоветовал прикладывать к груди смоченное настоем трав полотно. Я проводил его до дверей: «Она все время спрашивает про письма». Он обернулся: «Никаких писем. Ей теперь нужен только покой. — Приостановился на пороге. — Хотя…» — «Хотя — что?» — «Хотя, если б мы были уверены, что это хорошие письма… Есть письма, которые исцеляют». — «Ну и что? Вскрывать ее письма? Да ты рехнулся!» — «Как хочешь. Но сейчас лучше ей их не давать. Подержи пока у себя. Может быть, потом прочитает». — «Потом?»
Анджей, приоткрыв дверь, смотрел на нее в щелку, пока панна Розвадовская его не прогнала. Глубоко засунув руки в карманы, он медленно спускался по лестнице. Потом садился, открывал тетрадь, мать гладила его по голове, но он отстранялся. Брал зеленую ручку с пером, однако до грамматики Мартинсона не дотрагивался. Однажды он спросил: «Мама, а зачем я вообще учусь?» Мать подняла брови: «Что за вопрос, милый? Учиться надо, чтобы быть образованным, а потом получить хорошую работу». Он смотрел в стол, вертя ручку в пальцах: «Но зачем?» — «Как — зачем? — улыбнулась мать. — Александр, как только кончит учиться у профессора Гиммельсфельда, будет строить мосты и даже подземные железные дороги, такие, как в Париже, а ты…» Он разглядывал измазанные чернилами пальцы: «Я никаких мостов строить не буду. А он не будет строить никаких железных дорог». Мать коснулась его руки: «Не говори так, не огорчай отца. Ну, пиши. Если в бочку налить 260 галлонов воды и смешать с 25 галлонами зеленого красителя…» Он смотрел на нее так, будто не понимал ни единого слова.
А потом, во вторник, кажется шестнадцатого или семнадцатого…
Когда около десяти зазвонил звонок, я бегом спустился вниз. В дверях стоял посыльный с почты на Вспульной: «Письмо панне Зиммель. Пан Кораблев просил сказать, что пришло вчера». Я выхватил у него голубой конверт. Он заколебался: «Панна Зиммель всегда…» Я мельком посмотрел на штемпель: «Панна Зиммель плохо себя чувствует. Скажи пану Кораблеву, что я ей передам. Ну, ступай». Я дал ему пять копеек. Письмо сунул в нагрудный карман.
Янка выглянула из коридора. «Это кто приходил?» Я одернул куртку: «Посыльный из аптеки Эрмлиха принес лекарство». Она чуть дольше обычного задержала на мне взгляд, потом принялась вытирать пыль с греческой вазы, в которой больше не стояли полевые цветы.
В комнате на втором этаже я повернул за собою ключ. Солнце уже перебралось на крышу дома Есёновских, и купол св. Варвары, возвышающийся над липами, приобрел цвет весеннего золота. Пышные белые облака громоздились над ним, как гигантское воздушное здание, в котором обитает свет.
Голубой конверт был неплотно заклеен, краешек отставал, с минуту я колебался, потом осторожно, чтобы не порвать, отогнул край, потянул, бумага поддалась. Внутри — сложенный листок. Я медленно его развернул.
Листок дрожал у меня в руке. Буквы, дата. Цюрих? Почему Цюрих? Она была в Цюрихе? Чьи это имена? «…Что у меня? — писал кто-то ровным аккуратным почерком на фирменной голубой бумаге гостиницы «Arno» (Rheinstrasse, 13) “Fraulein Esther Simmel”, проживающей в “Warschau” на улице “Nowogrodskaja, 44”. — Вас это вправду интересует? Ну что я могу Вам ответить? Я боюсь. Вы, верно, спросите, чего. Не знаю. Вы ведь хорошо знаете Аннелизе… наша поездка, Фрайбург, все было так лучезарно, солнечно.
Так почему же я несчастлив, если я счастлив?
С. недавно сказал мне, что боится только психического заболевания. Но разве не именно этого мы в глубине души больше всего боимся? Что в мозгу лопнет жилка, на которой все держится, и мы перестанем узнавать даже самых близких?
Ах, сделать жизнь приемлемой! Ведь даже во сне нас настигает то, от чего мы бежим наяву. Так, может быть, лишь расставание с надеждами принесет минуту покоя, о чем все мы мечтаем? Человеческая натура переносит победу хуже, чем поражение. Поверьте мне: те, что утверждают обратное, лгут. Разве когда все рушится — признайтесь, — мы не чувствуем себя как в своей тарелке? Так что же нам остается? Знаю, это трудно. Но… помните, как он говорил? Ни на что не надеяться. Абсолютно ни на что. Быть только здесь, на Земле, и ни на что не рассчитывать.
А он? Как недавно рассказал мне С., его дед был суперинтендентом[20], а отец — пастором в Рёккене, деревушке близ Лютцена, — это многое объясняет! Пастором, а перед тем воспитателем альтенбургских принцесс. А мать? Дочь пастора из Поблеса. Какая же богобоязненная там должна была быть атмосфера! Вы знаете, что такое немецкий приход? Понимаете, что означают слова “протестантский приход в прусской Саксонии”? Его дед написал трактат — но о чем! О защите души от пагубного влияния современных веяний и о высоком долге верноподданства! Прекрасно, ничего не скажешь! И еще эта речь, которую пастор-отец — как мне рассказывали в Лейпциге — якобы произнес при крещении сына: “Благословен месяц октябрь, в котором произошли все величайшие события моей жизни; но то, что я переживаю сегодня, самое великое, самое прекрасное: мне суждено крестить мое дитя!.. Сын мой, Фридрих Вильгельм, так ты должен называться на земле в воспоминание о моем царственном благодетеле, в день рождения которого ты появился на свет”[21].
Ну как тут не содрогнуться? Чем не истинно отеческое приветствие монаршьему отпрыску, появившемуся на свет в сельском приходе, дабы следовать — в этом никто не посмеет усомниться! — высоким путем?
Итак, когда однажды — мне говорила Элизабет — он сказал Хельмуту: “Двенадцати лет от роду я увидел Бога во всем Его блеске” — я в это верю. В такой-то семье? А Шульпфорта[22], куда его заточили на столько лет? Это же было — я сам видел — бывшее аббатство цистерцианцев под Наумбургом! И ко всему еще загадочное размягчение мозга, которое отца довело до смерти, швырнув сына в объятия религиозных теток!
Что он делает теперь — не знаю. Я брожу по Цюриху, ищу “покоя и свободы”, иногда уезжаю в Гильдендорф, потом возвращаюсь, так что самые свежие новости меня минуют.
Кланяюсь Вам с присущей — как говорит Аннелизе — фрайбуржцам сердечностью, которая якобы выгодно отличает нас от жителей Цюриха.
Всегда преданный Вам И. Р.
P.S. Аннелизе обещает в скором времени написать».
Сын пастора из Рёккена? Аннелизе? Фридрих Вильгельм? И. Р.? Кто эти люди? Руки у меня дрожали. Я с трудом удержался, чтобы не скомкать в кулаке этот бледно-голубой листок, исписанный ровным, неторопливым почерком, буквы красивые, наклонные, изящно скроенные, будто следы птичьих лапок на снегу, чернила черные, с зеленым отливом, водяной знак гостиницы «Арно», два скрещенных скипетра, корона… запах…
Инородность чужой жизни. Полная. Непостижимая. Шульпфорта? Наумбург? Она и в Наумбурге была? Далекие города, дома, вокзалы, которых я никогда не видел, — это была ее жизнь? И. Р.? Это люди, которых она знала? С которыми встречалась? С которыми разговаривала? И еще этот вопрос, который вдруг уколол сердце, словно был адресован непосредственно мне? «Почему я несчастлив, если я счастлив»?..
Внизу в салоне тикали часы. Голубой листок лежал передо мной на столе, как сухой лист, сорванный с неизвестного дерева. Я медленно сложил его, вложил в конверт, конверт заклеил. Потом снял с верхней полки энциклопедию Мейера и засунул конверт с круглой печатью цюрихской почты под обложку седьмого тома. Толстый том положил на самый верх книжного шкафа, за черный барельеф с изображением ласточки, так, чтобы никто не мог до него дотянуться.
В коридоре никого не было, только солнечный свет играл карминными бликами на разгоревшихся стеклышках витража, будто где-то поблизости, на Маршалковской или Журавьей, вспыхнул сильный пожар.
Белоснежная ладья
Тот рассвет, сколько бы раз мы ни возвращались к нему в разговорах, сколько бы раз ни пытались коснуться его тайн, — всегда горел только чистым обещанием. Разве наша память не сохраняет надолго свет, который сулит лишь погожий день? Сбывшиеся предзнаменования! Открытые глаза, высокое небо, ласточки, солнце. Занавеска, которую всколыхнул ворвавшийся в приотворенное окно ветерок. Оживленное движение перед домом. Шаги на тротуаре.