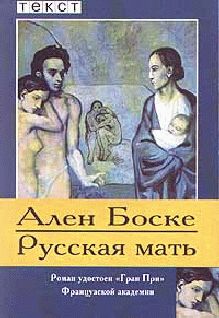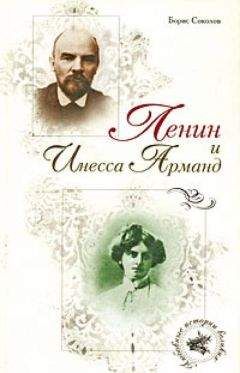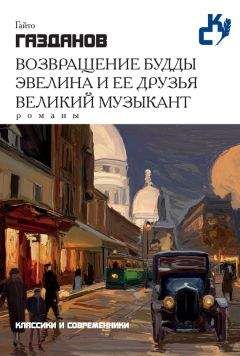Ален Боске - Русская мать
Кофе и сигареты в Штатах в изобилии, заказывать их и торговать ими здесь - прибыльно и ничуть не зазорно. В Германии дефицит, но не голод же. Голодом друзей я морить не собираюсь. Потом неприятностей не оберешься. Человек я разумный, потому в меру расчетливый. Я знаю: тут и там есть ценные картины, скульптуры, марки. Победитель-преобразователь, вроде меня, понимает, что в деле народного образования эта роскошь - ненужная. Выход я нашел быстро. Ты пришлешь сигареты, я их продам и на выручку куплю марки, лучше старые, как минимум вдесятеро дешевле. Свой план предлагаю тебе в письме и тут же заверяю: я не барышник и не мошенник, на черном рынке наживаться не собираюсь в отличие от многих моих коллег, только тем и занятых. Ты мне отвечаешь неопределенно, будто не вполне понимаешь, о чем речь. Переписка оживляется, я не предлагаю, я проповедую. Победить не всё, важно упрочить победу, а с волками жить - по-волчьи выть. С какой стати жалеть тебе немцев? Бывает, жалость равносильна глупости. Забыла, что они арестовали твоего отца в Брюсселе во время облавы в январе 44-го? Где погиб он, неизвестно, скорее всего, в Польше, в вагоне для скота на обледенелой железке. Лично я никого не убиваю, но и своего не упускаю.
Я нашел еще один весомый довод: раньше я не особо уважал марочный бизнес, но теперь, если займусь филателией, - значит, пойду по стопам отца и, может, даже продолжу его дело. И ты обязана убедить его и морально меня оправдать, если потребуется. Целый месяц талдычу: да нет же, не стану я барыгой, цель моя благородна, а для осуществления ее требуются средства, мне нужны сбережения, потому что моего оклада хватает на жизнь, но и только. В твоих ответах, как всегда, сначала полное согласие, лотом ослиное упрямство. В сущности, тебе в моей жизни почти все непонятно, а то, что понятно, - неприятно. В ответ я пишу тебе решительно: обойдусь без тебя, закажу кофе и сигареты через экспортную фирму. А попросил я тебя потому, что считал, что семья - прежде всего. Это, наконец, добило тебя. Ты уступила и шлешь мне четыре посылки в неделю.
Ничего, думаю, стерпится - слюбится. Даже еще вообразишь, что без мамочки сыночка как без рук. Бес преданности оставил было тебя, а теперь вернулся, и ты мнишь, что нужна, и не просто, а позарез. Я поддерживаю тебя в этих мыслях нежными письмами. Ты заучиваешь их наизусть. Купленные марочки я всегда потом продам в Нью-Йорке или Лондоне. Деньги положу в американский банк на твое имя, так что будут в твоем распоряжении. Конечно, дело кажется сомнительным, даже и недостойным нас с тобой. Но это только кажется. Тут у нас все, и маршалы, и послы, и министры, наживаются со страшной силой, причем не по дням, а по часам. И нажива вполне законна. Так называемые обменные пункты действуют в штабах без всякого камуфляжа. У победителей соревнование - кто больше награбит. И чем этот грабеж хуже репарации, которая вообще лишит немцев промышленности и сельского хозяйства на многие годы? Советский Союз отобрал у них треть территории - это считается справедливым. Франция с Англией демонтировали их заводы и прибрали к рукам черную металлургию - чтобы свою скорей поправить. А твой сын куда как скромней, да и человечней. Берет не силой, а лаской. Он голодным бошам вкусного хлебушка, а они ему за это дрянные зубчатые бумажки. Без почтовых марок жить можно, без еды нет. А мы все рабы совести: заставь, как говорится, дурака Богу молиться.
Я еду на тебе, это ясно. Но все это время душой я от тебя далеко. Ты стареешь, и никаких душевных движений и высоких порывов в тебе я не чувствую. Война оставила тебя целой и невредимой, разве что вынудила эмигрировать еще раз. Ты говоришь об этом с жалобным вздохом - вот твое основное занятие. Скрипку забросила, серьезных книг не читаешь, и никакой глубины в твоих чувствах нет. И в жизни моей ничего для тебя нет, разве что несколько строк трижды в месяц, что, мол, все хорошо, когда приеду в Нью-Йорк, не знаю. Ты меня, разумеется, ждешь, это у тебя уже хроническая болезнь. Но что у нас общего, кроме родства? И научишься ли ты смотреть на меня - без себя, моей благодетельницы? Материнская любовь - чудовище, всегда ненасытное. Глушу, как могу, в себе нежные чувства. Главное сейчас встать во весь интеллектуальный рост или, по крайней мере, подготовиться к нему. А ты мне мешаешь. Лучше помоги: сделай свое дело и уйди.
Бостон, зима 1959
По приглашению поэта Клода Виже я приехал в Бостонский университет прочесть лекции о современной французской литературе и отдохнуть от собственных литературных писаний. В Нью-Йорке я пробыл всего три дня: как всегда, но с небольшими изменениями. Между мной и тобой состоялся обмен подарками и улыбками, неловкими, смущенными, зато искренними. Хотелось говорить и говорить и рассказывать, но казалось, что другой хочет, наоборот, молчать и скрывать. Признаний-излияний так и не было. Одолевала застенчивость, вполне, впрочем, доброкачественная. Принуждение повело к отчуждению. Я достал подарок - привез тебе из Парижа лаликовскую вазу, - а ты разложила на своем большом диване рубашки, пледы, платки, носки, галстуки. Не в моем вкусе, но для дома сойдет. Зато ваши с отцом отношения, показалось мне, изменились к лучшему. Появилась в них какая-то широта. К шестидесяти пяти годам отец мой Александр Биск, закончив бранить зверства русской революции, вспомнил, что лично он - поэт. По правде, он никогда и не забывал об этом, но теперь вернулся к поэзии телом и душой, с давним юношеским жаром. Исправно посещал литераторов-эмигрантов, прилежно входил в текущую литературную жизнь. Читал Булгакова и первые стихи Евтушенко, вникал в Набокова, считая его, однако, чудовищным циником, изредка обменивался открытками с Пастернаком. Принимая прошлую жизнь отца, я принял и его оправдания. Тридцать пять с лишним лет он занимался скромным, но всепоглощающим и любимым делом. В конце концов, таких, как он, знатоков филателии в мире раз-два и обчелся. Он никому ничего не должен. На старости лет ни в чем не нуждается. В Европу не вернется. Будет жить в свое удовольствие: изредка обед с писателями, сигара дважды в день, бридж раз в неделю и ежедневно после дневного сна кинематограф.
На старости лет отец обрел, на мой взгляд, более свойственное ему счастье и тем подал пример тебе. Ты в свой черед с удивлением обнаружила, что искусство - утешение старости. Постепенно ты перестала носиться со всяким там прекраснодушием. Поняла, что люди не только добры или злы, но и талантливы или бездарны. Ты не знала, на что решиться. В твои шестьдесят девять за скрипку вновь не берутся, тем более если с утра до ночи по радио слышат Хейфеца, Стерна и Менухина. Тут ты знала, что к чему, и на свой счет не обманывалась: слабые ревматические пальцы подведут. Ты сочла, что изобразительное искусство легче, и захотела учиться скульптуре. Одна русская приятельница познакомила тебя с Архипенко, он за гроши согласился давать тебе уроки. Ты умудрилась подружиться с ним, по крайней мере, залучить его к себе на вечера, где, впрочем, фуршет был существенней бесед. Наконец тебе удалось произвести на свет несколько бюстов из глины и гипса, весьма сходных с подлинником: друзья твои позировали довольно охотно. Затем ты отважилась на большее: отлила в бронзе вычурного Дон-Кихота и несколько фигурок, так сказать, абстрактных.
Понятно, не век воспитывать и голубить сыночку. Пришлось тебе переучиваться жить.
Оказалось, занятия изящным искусством не хуже, если не лучше, мечтаний о любимом чаде. Мечтания, конечно, остались, но жила ты не только ими. Правда, иногда, всплакнув, уверяла, что только ими, но я видел - говоришь ты это для красного словца. И радовался, что ты так поумнела, что увлеклась новым искусством. Хотя тоже - с опозданием на полстолетия. И были вы с отцом безумно трогательны: две старые калоши вдруг захотели идти в ногу с веком. Отец променял Толстого на Сартра, Гауптмана на Музиля, Киплинга на Оруэлла. А ты, еще пуще, влюбилась в Эллингтона и Пуленка. Конечно, влиял на тебя и учитель твой, Архипенко. И после обеда ты не ходила больше к кумушкам почесать язык и всплакнуть о русском прошлом, но отправлялась в галереи на Мэдисон-авеню, в Уитни или Музей современного искусства. К тому же в кафе в парке между 5-й и 6-й авеню был потрясающе вкусный горячий шоколад. И хоть знала ты обо всем несколько поверхностно, восторгалась и ненавидела не меньше моего. Достойно спорила со мной, хваля Бранкузи, Клее, Сера. Чутье тебя не подводило. Морщилась ты, что у Шагала душа бакалейщика, а Матисс подменяет красоту красивостью. А в скульптуре ты оказалась совсем тонка, иногда и профессиональна. О Цадкине говорила не в бровь, а в глаз, и ругала за литературность, а о Липшице сказала, что он плохо кончит, потому что занимается религиозной и ритуальной скульптурой и идет на поводу у богатых заказчиков. Гонсалеса ты открыла только что и носилась с ним как с писаной торбой.
Вы с отцом подхлестывали друг друга. Он к тебе - со своей "открытой Америкой", ты к нему - со своей. Результат вашего культобмена подчас интересные заявления. Ты терпеть не можешь героев-невротиков, согласилась прочесть тридцать страниц Кафки и объявила, что он псих и выродок. У отца свои откровения. Счел, что абстрактное искусство - месть архитекторов-неудачников. Сюрреалистические образы он попытался понять, растолковать, объяснить - и не смог, но поносить Дали и Макса Эрнста не стал, а сказал только, что стар для всего этого и что у каждого поколения свои понятия о морали, и новые отрицают старые. Получилась из вас чета милых стариков с благородными сединами, хорошими манерами, поклонами-реверансами, которые лет тридцать назад сами вы сочли бы фальшью. И в чем вас упрекать? Только в том, что Штаты для вас - потемки, что ваш английский через пень колоду - смесь французского с нижегородским, что ваш любимый мирок - с 100-й до 34-й улицы и с 10-й до 2-й авеню, а шаг за пределы - уже авантюра, что раз в год друзья вывозят вас в Лонг-Бич и за полтора часа в машине вы якобы успеваете расчухать страну. Блажен, думал я, кто верует. Порой я завидовал вам. Блаженства вашего не могли нарушить даже легкие хвори со старческой немощью. Вот когда я пожалел, что уже не свет я твой в окошке, но ведь поделом мне! Сам к тому руку приложил, бросил тебя, стал парижанином до мозга костей, этаким проевропейцем-антиамериканцем. Ты смирилась и изменилась.