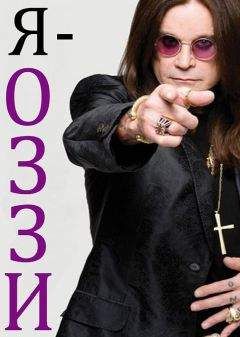Чарльз Диккенс - Письма 1833-1854
В ответ на кое-какие замечания, которые я позволил себе, Вы говорите, что не просматривали и не выправляли свою рукопись. Должен сказать, что в этом Вы не правы и поступаете неразумно. Ведь для того, чтобы я мог ответить на Ваш вопрос, мне важно знать не только каковы Ваши мысли, но и умеете ли Вы их выразить. Как же я могу об этом судить, приняв на веру Ваше заявление, что Вы можете писать правильным стихом, но не желаете утруждать себя этим? Я допускаю, что есть поэты в душе, - верно, их немало, людей, которые чувствуют стихи, но нас-то с Вами интересует только одно: можете ли Вы писать стихи?
Напрасно Вы думаете, что отвращение к такой по существу легкой работе, как перечитывание и исправление собственных писаний, является непреложным свойством поэтического темперамента. Талант истинный, за что бы он ни принимался, все делает хорошо; а тот, кто постоянно начинает что-нибудь и, не доведя дело до конца, бросает, не есть истинный талант, уверяю Вас!
За последние пять лет я не помню случая, чтобы хоть один молодой человек, посылая мне свое сочинение, не сообщал при этом, что оно является его худшим, а что лучшие лежат у него дома.
Говорю Вам искренне, что отношусь к Вам с сочувствием и хотел бы, чтобы Вы - воздав этим должное и себе, и мне - представили на мой суд лучшее, на что Вы способны; я же, если только найду это возможным, буду счастлив подбодрить и обнадежить Вас. Я бы хотел видеть "Сон молодого художника" с другим концом (то есть в первоначальном его варианте); и если Вы не найдете случай доставить мне эти две поэмы, то я, быть может (если только посещу Эксетер следующим летом - а я думаю туда съездить), получу их из Ваших рук.
Надеюсь, что ни это мое, ни предыдущее письмо Вы не поймете превратно. Может быть, я кажусь Вам жестоким, но поверьте, мною движет одно лишь доброжелательство. Вы не знаете, Вы и понятия не имеете о (тщательно скрываемом обычно) горестном положении молодых людей, которые в еще более ранней своей молодости ошиблись в призвании и сделались вследствие этого последними нищими от литературы. Мне же приходится наблюдать это явление изо дня в день. Именно потому, что я знаю, какую горечь и боль порождают подобные ошибки, потому что, окидывая мысленным взором путь, на который Вы хотите вступить, я вижу эти зловещие последствия, мне так необходимо получить правильное представление о Ваших возможностях, прежде чем поддержать Вас в Вашем роковом намерении.
Если мое предыдущее письмо Вас не совсем удовлетворило, то это оттого, что меня не удовлетворили образцы, Вами присланные, которых к тому же было слишком мало. Впрочем, если бы стихи, присланные Вами, попались мне на глаза случайно, я бы, наверное, прочитал их с удовольствием. К этому я ничего прибавить не могу, разве только то, что я каждый день читаю сочинения, которые мне кажутся ничуть не хуже Ваших. Вы говорите, что можете писать лучше. Я хочу получить возможность сказать о Вас то же самое.
Я с большим огорчением узнал, что Вы хворали, и от души надеюсь, что здоровье Ваше начало поправляться. Позвольте Вас заверить, что Ваша откровенность не нуждается ни в оправдании, ни в извинениях и что я остаюсь преданный Вам.
71
ФОРСТЕРУ
17 января 1841 г.
...Не могу Вам передать, как приятно мне было Ваше вчерашнее письмо. Я чувствовал, что Вам понравились главы, которые я прочитал Вам в четверг вечером, но для меня было большой радостью получить такое убедительное и щедрое подтверждение этого чувства. Вы знаете, как низко я оценил бы собственный труд, пусть бы его кругом расхваливали все, если бы при этом молчали те, чьим мнением и одобрением я дорожу. Ваши слова о том, что моя концовка трогает и задевает Вас так сильно, для меня важнее, чем тысяча сладчайших голосов со стороны. Когда я впервые, следуя Вашему ценному совету, стал продумывать именно такой финал повести, мне захотелось написать его так, чтобы люди, которым привелось столкнуться со смертью, могли читать последние страницы с чувством некоторой умиротворенности и почерпнуть в них утешение.
...После того как Вы вчера вечером ушли, я взял свой пюпитр к себе наверх и писал до четырех часов утра, пока не кончил всю вещь. С грустью думаю, что все эти люди потеряны для меня навеки, и сейчас мне кажется, что я уже не способен так привязаться к новым персонажам.
72
БЭЗИЛУ XОЛЛУ *
Девоншир-террас,
28 января 1841 г.
Сэр,
Это верно, что я не мастер изображать из себя достопримечательность, и я в самом деле испытываю непобедимое отвращение к этому занятию. Но право, в истории с мисс Эджворт, которую я повидал бы с удовольствием, Вы меня обижаете. Все дело в том, что когда я начинаю новую повесть, я никак не могу позволить себе оторваться в утренние часы от работы. Я всеми помыслами и устремлениями тянусь еще к только что законченной книге, мне трудно войти в новую колею, по которой предстоит продвигаться, а тут еще болезни близких, тревога за них, а тут еще всевозможные приглашения, от которых нельзя отказаться, которые не оставляют мне ни одного свободного вечера... В настоящее время я отдыхаю один раз в неделю, а именно - во вторник. Поэтому-то в разговоре с Вами я и назвал вторник.
Если бы время от времени я не замыкался так решительно, чтобы писать, или просто размышлять, то "Часы" в конце концов остановились бы. И если бы в такое время меня позвала к себе сама королева, я бы отказался и не пошел.
Мне не хочется, чтобы Вы уезжали с превратным мнением обо мне, и потому посылаю Вам это письмо.
Всегда преданный Вам.
73
ДЖОРДЖУ КЕТТЕРМОЛУ
Девоншир-террас,
четверг вечером, 28 января 1841 г.
Мой дорогой Джордж,
Вчера я посылал к Чепмену и Холлу за второй темой для 2-го выпуска "Барнеби", но оказалось, что они отправили его Брауну.
Первую тему к 3-му выпуску я пошлю Вам либо в субботу, либо, самое позднее, в воскресенье утром. Кроме того, я просил Чепмена и Холла направить Вам корректуры предыдущих глав для справок.
Я хочу знать, чувствуете ли Вы воронов вообще, и понравится ли Вам, в частности, ворон Барнеби? Так как Барнеби - идиот, я задумал выпускать его только в обществе ворона, который неизмеримо мудрее его. С этой целью я изучал свою птицу и думаю, что мне удастся из нее сделать весьма любопытный персонаж. Возьметесь ли Вы за такой сюжет, когда ворон сделает свой дебют?
Преданный Вам.
74
ТОМАСУ ЛЕТИМЕРУ
Девоншир-террас,
13 марта 1841 г.
...Интересно - я всегда считал, что за "Лавку древностей" заслуживаю наивысший балл и что ни один из моих романов так отчетливо не представлялся мне весь - по композиции и общему замыслу, - как этот, с самого начала. Умиротворенность, пронизывающая всю эту вещь, есть результат сознательно поставленной цели; я хотел, чтобы на книге с первых страниц лежала тень преждевременной смерти. Мне кажется, что я всегда буду любить эту книгу больше всех, какие написал и напишу. Вот и все, что касается моих писаний...
75
БЭЗИЛУ ХОЛЛУ
Девоншир-террас,
вторник вечером, 16 марта 1841 г.
Мой дорогой Холл, - я чувствую, что это и есть тот случай, когда juniores priores {Младшие впереди (лат.).}, и, видно, мне следует дружеским обращением к Вам разбить лед с одного удара.
До вчерашнего вечера я никак не мог собраться с духом и прочитать повесть леди де Ланси *, и если бы не Ваше письмо, наверное, так бы и не собрался. С первого взгляда на рукопись, которую Вы так любезно мне предоставили, я почувствовал, какая в ней заключена страшная правда, и я в самом деле, из чистого малодушия, не решался раскрыть ее.
Проработав над "Барнеби" весь день, я пошел часа на два бродить по самым убогим и страшным улицам в поисках впечатлений для дальнейшей работы над повестью. И вот, часам к десяти я принялся за рукопись. Сказать, что чтение этого поразительного и потрясающего рассказа составило эпоху в моей жизни, что я не позабуду ни одного слова в нем, что я не могу отделаться от впечатления, произведенного им и что я в жизни не встречал ничего более искреннего, трогательного, ничего, что бы вызывало такую живую картину перед глазами, - значит ничего не сказать. Я - и муж, и жена, и убитый мужчина, и оставшаяся в живых женщина, и Эмма, и генерал Дандас, и доктор, и ложе больного - все и вся (за исключением прусского офицера, да будет он проклят!). Все то, что я до сих пор считал за шедевры, что прежде поражало меня силой чувства, теперь кажется мне пустым. Даже если я проживу еще пятьдесят лет, отныне и до самой моей смерти описанные здесь сцены будут сниться мне с ужасающей реальностью. И всякий раз, когда зайдет при мне разговор о каком-нибудь сражении, перед моими глазами непременно всплывет вся эта повесть. Так и вижу герцога, как он в рубашке без мундира стоит перед офицером в парадной форме или, как он, спешившись, подходит к храброму солдату, сраженному пулей.
Вот разительное доказательство могущества этого удивительного человека, Дефо: чуть ли не в каждой строке повествования я словно узнаю его руку. У Вас не было такого чувства? Как она поехала в Ватерлоо, не думая ни о чем, кроме препятствий, которые нужно преодолеть; как заперлась в комнате, чтобы не слышать ничего, как не подошла к двери, когда раздался стук; как по бурной радости, которая ее охватила, когда она узнала, что он в безопасности, поняла, до какой степени ее терзали тревоги и сомнения; ее страстное желание быть вместе с ним, все это описание хижины и обстановки в ней; их ежедневные ухищрения, чтобы не умереть с голоду; и как она легла рядом с ним и оба уснули; и его решение бросить военную службу и начать спокойную жизнь; и ее грусть, когда она увидела, с каким аппетитом он ест перед самой своей гибелью, и потом описание его гибели, - до сих пор я думал, что такая высокая правдивость в литературе по плечу одному этому необыкновенному человеку.