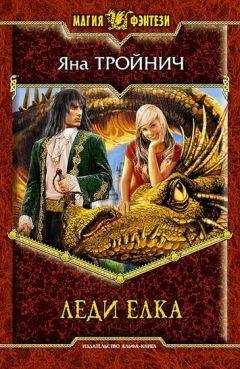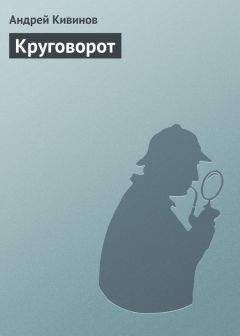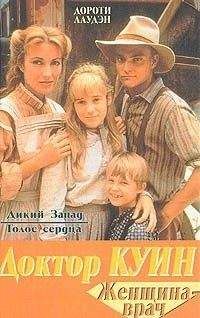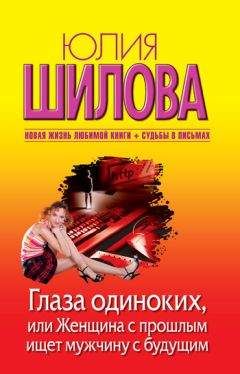Патрик Модиано - Ночная трава
— Агхамури еще и попросил, чтоб я забрал у тебя ту карту на имя жены, которую он тебе передал.
Она захохотала, и я не мог понять, притворяется она или нет.
— А потом вдобавок сказал, что я замешана в грязную историю? И ты всему поверил, Жан?
Мы шли вдоль набережной, и я был рад, что теперь не придется идти по угрюмой и тесной улице Ренн. Здесь, по крайней мере, было чем дышать, был простор. И совсем мало машин. Тишина. Мы слышали звук собственных шагов.
— Он что попало говорит… Это он, на самом деле, угодил в грязную историю… Он тебе не говорил?
— Нет.
Все это было неважно. Значение имело лишь то, что мы идем вдоль набережной, ни у кого не спрашиваясь и ничего не оставив позади. Мы можем перейти Сену и затеряться в чужих кварталах, и даже покинуть Париж, чтоб уехать к другим городам, к новой жизни.
— Они хотят его использовать, чтоб заманить в ловушку одного марокканца, который часто бывает в Париже. Он не то чтобы согласен; но уже увяз в этом… Он не может им отказать…
Я едва слушал, что она говорит. Мне хватало того, что мы идем рядом, по набережной, и того, как звучит ее голос. Персонажи третьего плана из отеля «Юник» на самом деле интересовали меня мало: Шастанье, Марсиано, Дювельц и тот, по имени Рошар, которого все звали Жорж, — я заставляю себя повторять их имена, чтоб они не стерлись из моей памяти окончательно.
— А ты? — спросил я. — Ты тоже вынуждена с ними встречаться?
— Вовсе нет… Это Агхамури меня познакомил с ними. А так я с ними ничего общего не имею.
— Даже с Рошаром?
Я заставил себя задать этот вопрос. Сам Рошар, которого называли Жорж, был мне так же безразличен, как и остальные.
— Я просто попросила его о небольшой услуге… и все…
— А там тебя тоже зовут Данни, на фальшивых документах?
— Не смейся надо мной, Жан…
Она взяла меня под руку, и мы пошли по Королевскому мосту. Не знаю почему, но мне всегда становилось легко, когда я шел по нему над Сеной, переходя на правый берег.
На середине моста она остановилась и сказала:
— Фальшивые они или нет, неужели ты правда считаешь, что это хоть что-то для нас меняет?
Нет. Ровно ничего. В то время я и сам не был уверен, кто я такой, почему же она должна знать о себе больше? Даже сегодня у меня есть сомнения, что мое свидетельство о рождении верно, и я до конца дней буду ждать, что кто-нибудь принесет мне некогда утерянные бумаги, в которых указаны мое настоящее имя, дата рождения и имена настоящих родителей, о которых я никогда и не слышал.
Она прильнула ко мне и прошептала на ухо:
— Опять задаешь слишком много вопросов…
Мне кажется, она была неправа. Это сегодня, десятилетия спустя, я пытаюсь расшифровать те сигналы морзянки, которые шлет мне из прошлого загадочный собеседник. А тогда я довольствовался тем, что жил сегодняшним днем, не ставя лишних вопросов. А те немногие, что я ей и задавал — всегда без особой настойчивости, — она оставляла без ответа. Лишь однажды вечером — да и то сказала полслова. Только спустя двадцать лет я узнал из папки, которую передал мне Ланглэ, в какую же «грязную историю», говоря словами Агхамури, она была замешана. Он уточнил тогда, что это «нечто серьезное». Да, это было серьезно. Речь даже шла о смерти человека.
Сегодня вечером я листал материалы из папки Ланглэ и снова наткнулся на тот листок из тонкой бумаги с детальным отчетом, который и переписываю: «На теле жертвы имеются следы от двух пуль. Один выстрел был произведен в упор, другой со среднего расстояния… Были найдены две гильзы, соответствующие обеим пулям…» У меня не хватает духа переписать до конца. Я еще вернусь к нему, в другой раз, когда за окном будет светлей, когда солнце и чистое синее небо разгонят тени.
Мы шли через Тюильри. Я вспоминаю время года. Сейчас, когда я пишу все это, мне кажется, что был январь. Я вижу полосы снега в саду Каррузель и даже на тротуаре, по которому мы идем, вдоль границы Тюильри. Впереди нас в темных арках улицы Риволи фонари укутаны светящимися облаками тумана. И все же я сомневаюсь: это могло быть и в начале осени. На деревьях в Тюильри еще были листья. Скоро они опадут, но осень для меня не связана с концом. Я думаю, что год начинается в октябре. Зима. Осень. Времена года путаются и подменяют друг друга в памяти, как если б они в течение года жили своей жизнью, как растения, и никогда бы не застывали мертвыми образами. Да, они то и дело мешаются между собой: зимние оттепели, бабье лето после первых осенних холодов… Когда мы подходили к аркам, зарядил дождь, очень сильный, скорее даже внезапный летний ливень.
— Ты правда считаешь, что я похожа на того, кто замешан в грязной истории?
Она повернулась ко мне лицом, чтоб я повнимательней рассмотрел его, и взглянула мне прямо в глаза, так искренне…
— Будь я замешана в грязной истории, я бы сказала тебе…
Я до сих пор слышу эти слова по ночам, когда не могу уснуть. Я записал их в черный блокнот. Видно, у меня все же было какое-то подозрение, раз я вывел их черным по белому. Почему она мне ничего не сказала? Только однажды, полунамеком, когда мы вечером выходили из Лионского вокзала, — тогда я не обратил внимания на ее слова. Может, она боялась испугать меня этим, но тогда она плохо меня знала. Уже не помню, у кого из писателей-моралистов, которых я читал во времена улицы Од, было сказано, что мы всегда должны принимать тех, кого любим, такими, какие они есть, и, в особенности, никогда не требовать у них отчета.
— Знаешь, — сказала она, — скоро я совсем порву с этой шантрапой из отеля «Юник».
Она очень следила за своей лексикой и даже за произношением, но порой у нее проскакивали такие жаргонные словечки, что некоторых я и сам не знал, и тогда я записывал в черный блокнот: халупа, скопытиться, легаши, чапать… Там же, на одной из страниц в черном блокноте, я нашел в скобках фразу: «Шантрапа из отеля „Юник“» — возможно, я тогда подумывал использовать ее в качестве названия для романа.
— Ты права, — сказал я, — если что, всегда есть те, кто пишет тебе до востребования.
Я сказал это с иронией, о чем тут же пожалел. Но в конце концов она первая произнесла «шантрапа из отеля „Юник“» с издевкой.
Внезапно она погрустнела.
— В основном это пишет мой брат… — проговорила она быстро, надтреснутым голосом, которого я раньше не слышал у нее, и в этом признании было столько искренности, что я тут же рассердился на себя, что прежде сомневался в существовании брата, с которым она никак не хотела меня знакомить.
Почта, отдел до востребования. В папке Ланглэ был листок белой бумаги, порядком испачканный, который напоминал карточку гражданского состояния. Сегодня вечером я снова разглядываю его в надежде, что мне откроется его тайна: на снимке из фотоавтомата, прикрепленном к нему с левого края, я узнаю Данни, только волосы у нее короче. Но при этом сама карточка выдана на имя Мирей Сампьерри, проживающей по адресу Париж, 9-й округ, ул. Бланш, дом 23. Выдана она в год перед нашим знакомством, и надпись на ней гласит: «Сертификат дает право на получение без дополнительных сборов писем и телеграмм в отделе до востребования». Но при этом здесь указано не отделение на улице Конвента, куда я часто ходил вместе с ней, а некое «почтовое отделение № 84», улица Баллю, 31, в Девятом округе. На сколько адресов приходили ей письма до востребования? И как эта карточка оказалась в руках Ланглэ или его сотрудников? Данни оставила где-нибудь? А это имя, Мирей Сампьерри, разве не его называл Ланглэ на первом моем допросе? Удивительно, как отдельные детали вашей собственной жизни, которых вы вовсе не замечали в свое время, вдруг всплывают лет двадцать спустя — так, разглядывая под лупой старую фотографию, вдруг натыкаешься на какой-то предмет или чье-то лицо, на которое прежде ни разу не обращал внимания…
Она потянула меня направо, под арки улицы Кастильон.
— Пойдем, я приглашаю тебя на ужин… Тут недалеко… Можем дойти пешком…
В тот час квартал был пуст, и гул наших шагов раздавался под сводами арок. Вокруг нас воцарилась такая плотная тишина, которую не мог нарушить шум автомобиля, — только стук лошадиных копыт и скрип повозки. Не знаю, тогда ли мне пришла эта мысль или только теперь, когда я пишу эти строки. Мы затерялись в ночном Париже Шарля Кро и его пса Сатэна, Тристана Корбьера, и даже Жанны Дюваль. У оперы ездили автомобили, и мы снова вернулись в Париж XX века, который теперь мне кажется таким далеким… Мы пошли по шоссе д’Антен, в конце которого была церковь с мрачным фасадом, — точно громадная птица присела отдохнуть.
— Мы почти пришли, — сказала она, — это на улице Бланш, в самом начале…
Прошлой ночью мне снилось, что мы идем тем самым путем, — наверное, из-за того, что я писал вечером. Я слышал ее голос: «Это на улице Бланш, в самом начале», и я повернулся к ней и сказал: