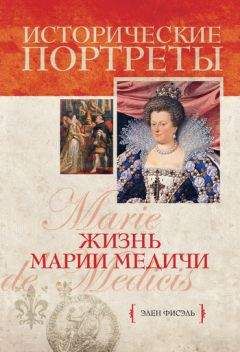Гюнтер Грасс - Жестяной барабан
Скат -а в него, как известно, можно играть лишь втроем -для матушки и обоих ее партнеров был не только наиболее подходящей игрой, но и прибежищем, той самой тихой гаванью, в которой они укрывались всякий раз, когда жизнь соблазняла их наконец создать пару, все равно в каком сочетании, и играть в дурацкие игры типа "шестьдесят шесть" или "пьяница".
Но теперь оставим тех троих, что произвели меня на свет, хотя у них и так всего было достаточно. Прежде чем перейти к самому себе, несколько слов про Гретхен Шефлер, мамину подружку, и ее пекаря, равно как и законного супруга Александра Шефлера. Он лыс, она демонстрирует в улыбке лошадиную челюсть, состоящую преимущественно из золотых зубов. Он коротконог и, сидя на стуле, никогда не достает ногами ковра. Она в платьях собственной вязки, на которых всегда слишком много узоров. Позднее -фотографии обоих Шефлеров в шезлонгах или на фоне спасательных шлюпок парохода "Вильгельм Густлов", принадлежащего обществу "Сила через радость", либо на прогулочной палубе "Танненберга" от морского судоходства Восточной Пруссии. Каждый год они совершали путешествие на пароходе и привозили из Пиллау, Норвегии, с Азорских островов, из Италии в целости и сохранности сувениры домой, на Кляйнхаммервег, где он пек булочки, а она отделывала наволочки кружевами "мышиные зубки". Когда Александр Шефлер молчал, он безостановочно увлажнял кончиком языка верхнюю губу, а друг Мацерата зеленщик Грефф, живущий от нас наискосок, осуждал такую манеру держать себя как непристойную.
Хоть Грефф и состоял в браке, он был более вождь скаутов, нежели супруг. Фотография показывает его, широкоплечего, поджарого, здорового, в форме с короткими штанами, со шнурами, как положено вождю, и в шляпе скаута. Рядом, в такой же экипировке, стоит белокурый, пожалуй чересчур глазастый, мальчуган лет примерно тринадцати; Грефф положил левую руку ему на плечо и, в знак благосклонности, прижимает к себе. Мальчишку я не знал, а Греффа мне еще предстояло узнать и понять через его жену Лину.
Я увяз в снимках туристов, путешествующих с помощью "Силы через радость", и свидетельствах нежной эротики скаутов. Хочу быстро перевернуть несколько страниц и обратиться к себе, к своему первому фотографическому изображению.
Я был красивым ребенком. Снимок сделан на Троицу в двадцать пятом году. Мне исполнилось тогда восемь месяцев, меньше на два месяца, чем Стефану Бронски, который изображен на соседней странице, на карточке того же формата, и излучает несусветную заурядность. У открытки -волнистый, как бы искусно оборванный край, обратная сторона разлинована для адреса, -вероятно, было отпечатано много экземпляров для семейного употребления. Вырез на странице альбома демонстрирует посреди горизонтально расположенного прямоугольника овал чересчур симметричного яйца. Голый, очевидно символизируя желток, я лежу на животе, на белой шкуре, которую, вероятно, какой-нибудь белый медведь ссудил какому-нибудь восточноевропейскому фотографу-профессионалу, специализирующемуся на детских снимках. Для моего первого изображения, как и для многих снимков того времени, был безошибочно избран теплый коричневатый тон, который не спутаешь ни с каким другим и который мне хотелось бы назвать человечным, в отличие от бесчеловечно гладких черно-белых снимков наших дней. Тускло-расплывчатая, должно быть прорисованная, листва создает темный, кое-где разбитый бликами света задний план. В то время как мое гладкое здоровое тельце в плоском спокойствии чуть наискось возлежит на шкуре, поддаваясь воздействию полярной родины белого медведя, сам я с усилием поднимаю круглую, как шар, детскую головку и гляжу на потенциального наблюдателя блестящими глазами. Можно бы сказать: фотография -как все детские фотографии. Но посмотрите, пожалуйста, на мои руки, и вам придется признать, что мое первое изображение принципиально отличается от бесчисленных изображений, в равной мере демонстрирующих по разным альбомам очарование детства: я лежу со сжатыми кулаками. Не пухленькие пальчики-сардельки, которые самозабвенно, повинуясь хватательному инстинкту, играют космами медвежьей шкуры, а серьезно сжатые маленькие хваталки парят по обеим сторонам головы, вечно готовые в любую минуту опуститься, задать тон. Какой, спрашивается, тон? Да барабанный же! Покамест его нет еще в поле зрения, его, который при свете лампочек был мне обещан к третьему дню рождения, но для специалиста по фотомонтажу не составило бы ни малейшего труда приделать соответственное, то есть уменьшенное изображение детского барабана, не предпринимая никаких изменений в моей позе. Пришлось бы разве что убрать глупого и ненужного тряпичного зверя. Он и без того выглядит как чужеродный элемент в этой, в общем-то, удавшейся композиции, чьей темой является тот проницательный, сметливый возраст, когда режутся первые зубки. Впоследствии меня больше не укладывали на шкуру белого медведя. Мне было, надо полагать, полтора года, когда меня в коляске с высокими колесами поставили на фоне дачного забора, зубцы и поперечник которого столь точно повторены снежным покровом, что я должен отнести этот снимок к январю двадцать шестого. Грубая, пахнущая просмоленной доской конструкция забора, если долго ее рассматривать, ассоциируется у меня с пригородом Хохштрис, в чьих обширных казармах первоначально были расквартированы гусары маккензеновского полка, а уже в мое время -полиция Вольного города. Но поскольку моя память не сохранила ни одного имени, связанного с этим пригородом, остается предположить, что снимок сделан во время разового визита моих родителей к людям, которых я позже не видел либо видел лишь мельком.
Ни матушка, ни Мацерат, поставившие коляску между собой, несмотря на холодное время года, не надели зимних пальто. Напротив, на матушке -русская блуза с длинными рукавами и вышитым орнаментом, которые придают зимнему снимку вот какой вид: это в глубинах России снимают царскую фамилию, Распутин держит аппарат, я царевич, а за забором притаились меньшевики и большевики и, мастеря самодельные бомбы, принимают решение о гибели моего самодержавного семейства. Корректное, среднеевропейское и, как станет ясно лишь впоследствии, судьбоносное мещанство Мацерата смягчает остроту насилия у притаившейся в снимке злодейской баллады. Люди посетили мирный Хохштрис, ненадолго, даже не надевая зимних пальто, вышли из гостеприимной квартиры, попросили хозяина сфотографировать их с веселым, как и положено, Оскаром посредине, чтобы сразу после этого вернуться в тепло, к сластям и прочим приятностям жизни за кофе с пирожными и взбитыми сливками.
Сыщется еще добрая дюжина моментальных снимков лежащего, сидящего, ползущего, бегущего, годовалого, двухлетнего, двухсполовинойлетнего Оскара. Все снимки более или менее удачные и представляют собой предварительную стадию того портрета во весь рост, который заказали по поводу моего третьего дня рождения.
Здесь, на этом снимке, я уже получил его, свой барабан. Здесь он висит у меня на животе, с белыми и красными зубцами. Здесь я с чувством собственного достоинства и с серьезной решимостью на лице скрещиваю над жестью деревянные палочки. Здесь на мне полосатый пуловер. Здесь я щеголяю в блестящих лаковых туфельках. Здесь и мои волосы, как щетка, желающая что-нибудь почистить, ежиком стоят у меня на голове, а в моих голубых глазах, в каждом из них, светится жажда власти, не желающая ни с кем ее делить. Здесь мне удалось занять позицию, изменять которой у меня нет ни малейшего повода. Здесь я сказал, здесь я решился, здесь принял решение никоим образом не становиться политиком и уж подавно не торговать колониальными товарами, а напротив, поставить точку и навсегда остаться таким вот таким я и остался, задержался на этих размерах, в этой экипировке на долгие годы. Большие люди и маленькие люди, Большой Бельт и Малый Бельт, буквы большие и буквы маленькие, карлики и Карл Великий, Давид и Голиаф, Мальчик-с-пальчик и гвардейцы-великаны; я же остался трехлеткой, гномом, карапузом, вечным недомерком, чтобы меня не заставляли разбираться в малом и в большом катехизисе, чтобы мне не стать большим, достигнув роста метр семьдесят два, не стать так называемым взрослым и не угодить в руки человека, который, бреясь перед зеркалом, сам себя называет моим отцом, чтобы не взваливать на себя обязательства перед лавкой, которая по желанию Мацерата в качестве лавки колониальных товаров должна была означать для Оскара, когда тому минет двадцать один год, мир взрослых. Чтобы не пришлось мне щелкать кассовым аппаратом, я уцепился за барабан и с третьего дня рождения не вырос ни на один дюйм, остался трехлетним, но по меньшей мере трех пядей во лбу, которого все взрослые превзошли ростом, который всех взрослых превзошел умом, который не хотел сравнивать свою тень с их тенями, который завершил свое развитие, как внутреннее, так и внешнее, тогда как взрослые и в глубокой старости продолжают лепетать о развитии, который без усилий постигал то, что другим давалось с превеликим трудом, а порой и через мучения, у которого не было надобности каждый год носить штаны и ботинки все больших размеров с единственной целью подтвердить процесс роста. Но при этом -тут даже сам Оскар не может отрицать процесса развития -у него все-таки росло не все, и не всегда мне на пользу, росло, достигло в конце концов мессианских размеров; только кто из взрослых в мое время присматривался, кто прислушивался к неизменно трехлетнему барабанщику Оскару?