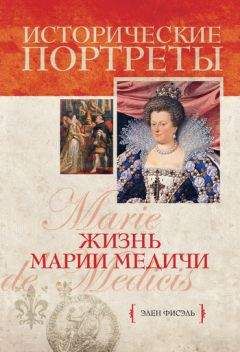Гюнтер Грасс - Жестяной барабан
-Бога ради, кто вы такой и что вам надо?
Пришлось мне сдаться, признать, что по документам я зовусь Оскар Мацерат, что я ее сосед, что я люблю ее, сестру Доротею, нежно и страстно.
Если кто-нибудь, злорадствуя, подумает, будто сестра Доротея с проклятиями отшвырнула меня на половик ударом кулака, тому Оскар печально, но не без тихого удовлетворения поведает, что сестра Доротея лишь медленно, можно сказать, задумчиво и нерешительно, сняла руки с моего горба, и это походило на бесконечно грустное поглаживание. А ее тотчас начавшийся плач и всхлипывание мой слух тоже воспринял как вполне сдержанные. Я прозевал тот миг, когда она, выбравшись из-под меня и моего коврика, ускользнула от меня, дала ускользнуть мне, и даже шаги ее по коридору заглушила ковровая дорожка. Я услышал еще, как распахнулась дверь, как повернулся в замке ключ, и сразу после этого все шесть квадратиков матового стекла в двери у сестры Доротеи наполнились изнутри светом и жизнью.
Оскар лежал укрываясь ковриком, который все еще сохранял какое то тепло от сатанинской игры. Глаза мои прильнули к освещенным квадратикам. Порой изнутри по стеклу скользила тень. Теперь она подходит к платяному шкафу, сказал я себе, теперь к комоду. Оскар предпринял чисто собачью попытку. Со своим ковриком я подполз по дорожке к ее двери, поскребся о дерево, чуть приподнялся, провел ищущей, молящей рукой по двум нижним квадратикам, но сестра Доротея не открывала мне, она сновала без устали от шкафа к комоду с зеркалом. Я понимал, и я не хотел себе в том признаться: сестра Доротея складывала вещи, убегала, убегала от меня. Даже робкую надежду, что, уходя, она хоть покажет свое лицо при электрическом свете, мне пришлось оставить. Сперва за матовым стеклом стало темно, потом я услышал поворот ключа, дверь открылась, башмаки на дорожке, я потянулся к ней, налетел на чемодан, потом на ногу в чулке, но тут одним из тех грубых дорожных башмаков, которые я видел у нее в шкафу, она пнула меня в грудь, опрокинула на половик, и, пока Оскар снова выпрямился и пролепетал: "Сестра Доротея", входная дверь уже захлопнулась: от меня ушла женщина.
Вы и все те, кто поймет мое страдание, теперь, пожалуй, скажете: ступай в постель, Оскар, что тебе делать в коридоре после этой постыдной истории? Сейчас четыре часа. Ты лежишь голый, на кокосовом половике, худо-бедно прикрытый колючим ковриком, у тебя ободраны ладони и колени, твое сердце обливается кровью, твой член саднит, твой позор вопиет к небу. Ты разбудил господина Цайдлера. Он разбудил свою жену. Сейчас они придут, они распахнут двери своей гостиной, она же спальня, и увидят тебя. Иди в постель, Оскар, скоро пробьет пять!
Именно эти советы я и сам давал себе, лежа на половике. Я замерз и продолжал лежать. Я пытался в мыслях вернуть тело сестры Доротеи, но не ощущал ничего, кроме кокосовых волокон. Даже между зубами у меня были волокна, потом на Оскара упала полоска света: дверь цайдлеровской комнаты приоткрылась, голова Цайдлера, со стрижкой под ежа, а над ним -голова в металлических бигуди, голова Цайдлерши. Они таращились, он кашлял, она хихикала, он окликнул меня, я не ответил, она все хихикала, он велел ей замолчать, она пожелала узнать, что со мной, он сказал, что так нельзя, она сказала, что у них приличный дом, он пригрозил отказать мне от дома, а я все молчал, потому что чаша сия еще не переполнилась. Тогда Цайдлеры распахнули дверь, и он зажег свет в коридоре. Они подошли ко мне, и у них были злые-презлые глаза, маленькие злые глаза, и на сей раз он хотел срывать свою злость не на рюмках, он стоял надо мной, и Оскар ждал цайдлеровскую злость но Цайдлер так и не смог ее сорвать, потому что с лестничной клетки донесся шум, потому что неверная рука принялась искать замочную скважину и под конец нашла, потому что вошел Клепп и кого-то с собой привел, и этот кто-то был такой же пьяный, как и сам Клепп: он привел Шолле, наконец-то обретенного гитариста.
Оба успокоили Цайдлера с супругой, наклонились к Оскару, не задавая вопросов, подхватили, отнесли меня и этот сатанинский половик в мою комнату.
Клепп растер меня докрасна. Гитарист принес мою одежду. Оба одели меня и осушили мои слезы. Всхлипывание. За окном наступало утро. Воробьи. Клепп навесил на меня барабан и показал свою маленькую деревянную флейту. Всхлипывание. Гитарист перекинул через плечо свою гитару. Воробьи. Друзья окружили меня, обступили с обеих сторон, увели всхлипывающего, безвольного Оскара прочь из квартиры, прочь из дома на Юлихерштрассе, к воробьям, вывели его из-под воздействия кокосовых волокон, провели по утренним улицам, наискось через Дворцовый сад, к планетарию и до берега реки, именуемой Рейн, серой, стремящейся к Голландии, несущей корабли, на которых трепыхалось стираное белье.
С шести утра и до девяти просидели мы в то туманное утро, мы -это флейтист Клепп, гитарист Шолле и ударник Оскар, на правом берегу реки Рейн, мы делали музыку, проигрывали ее, пили из одной бутылки, моргая глядели поверх воды на тополя другого берега, сопровождали музыкой корабли, что с грузом угля тяжело поднимались от Дуйсбурга против течения, лабали быстрый и бодрый либо медленный и печальный миссисипи-блюз и все подыскивали имя для только что основанного джаз-банда.
Когда утренняя мгла окрасилась слабой примесью солнца, а наша музыка уже выдавала тоску по плотному завтраку, Оскар, своим барабаном отделивший себя от минувшей ночи, поднялся, достал из кармана деньги, что означало завтрак, и возвестил своим друзьям имя новорожденной капеллы: "The Rhine River Three" -назвали мы себя и пошли завтракать.
В ЛУКОВОМ ПОГРЕБКЕ
Как мы любили луга вдоль Рейна, так и хозяин трактира Фердинанд Шму любил правый берег Рейна между Дюссельдорфом и Кайзервертом. Поначалу мы репетировали наши номера выше Штокума. Шму же в отличие от нас прочесывал со своей мелкокалиберкой деревья и кусты на склоне, ища воробьев. Такое у него было хобби, и при этом он отдыхал. Когда его, бывало, что-нибудь раздосадует, он приказывал жене сесть за руль "мерседеса", они ехали вдоль реки, оставляли машину выше Штокума, он пешком, малость плоскостопый, ружье дулом книзу, тащил за собой по лугам свою жену, которая предпочла бы остаться в машине, усаживал ее потом на какой-нибудь камень, а сам исчезал в кустах. Мы играли свой регтайм, он палил в кустах. Пока мы служили музыке, он стрелял по воробьям.
Шолле, знавший, подобно Клеппу, всех трактирщиков Старого города наперечет, говорил нам, едва среди зелени прозвучат выстрелы:
-Шму стреляет по воробьям.
Поскольку Шму уже нет в живых, я могу тут же, не сходя с места, произнести надгробное слово: Шму был хороший стрелок, а может быть, и хороший человек, ибо, даже паля по воробьям, он хоть и держал в своем левом кармане боеприпас для мелкокалиберки, зато правый у него топорщился от птичьего корма, и после стрельбы, никогда -до, а Шму убивал за раз не больше дюжины, он щедрой рукой рассыпал этот корм.
Когда Шму еще был жив, он как-то холодным ноябрьским утром сорок девятого года мы уже несколько недель сыгрывались на берегу Рейна -заговорил с нами, причем не тихо, а преувеличенно громко:
-Как мне прикажете здесь стрелять, когда вы занимаетесь музыкой и спугиваете моих птичек?
О! начал Клепп свою оправдательную речь и взял флейту наизготовку, как ружье. -Вы тот самый на редкость музыкальный господин, который ритмически бесподобно сопровождает наши мелодии, когда палит в кустах! Мое почтение, господин Шму!
Шму был очень доволен, что Клепп назвал его по имени, но тем не менее спросил, откуда Клепп, собственно, знает его. Клепп разыграл глубокое возмущение: да кто ж не знает Шму?! На улице только и слышно: а вон и Шму пошел, сейчас придет Шму, вы Шму видели, а куда это у нас делся Шму, а он сегодня воробьев стреляет.
Возведенный Клеппом до уровня мировой знаменитости, Шму предложил нам сыграть, полюбопытствовал, как нас всех зовут, пожелал послушать что-нибудь из нашего репертуара, услышал тигриный регтайм, после чего подозвал свою жену, которая сидела в меховой шубе на камне над струями Рейна и размышляла. Ока явилась в мехах, и нам пришлось повторить свой номер, мы выдали на высшем уровне "High Society", и она, вся в мехах, изрекла, когда мы кончили:
-Фреди, ты ведь именно это искал для своего погребка.
Он, судя по всему, разделял ее мнение, сразу поверил, что давно искал нас и вот теперь нашел, но сперва, задумавшись и, может, что-то подсчитывая в уме, весьма искусно вжикнул несколькими камешками по поверхности Рейна, а уж потом предложил: играть в Луковом погребке с девяти вечера до двух ночи, по десять марок на человека за вечер, ну или, скажем, по двенадцать, а Клепп сказал тогда семнадцать, чтобы Шму сподручнее было сказать пятнадцать, Шму тем не менее сказал четырнадцать пятьдесят, и мы ударили по рукам.
Если глядеть с улицы, Луковый погребок был схож со множеством новейших небольших погребков, которые еще и тем отличаются от более старых, что они гораздо дороже. Причину дороговизны можно искать в экстравагантном внутреннем убранстве погребков, по большей части слывущих артистическими, а также в их названиях, ибо они изысканно именовались "Равиольчики", или таинственно-экзистенциально "Табу", или остро и жгуче "Паприка", а то и вовсе "Луковый погребок".