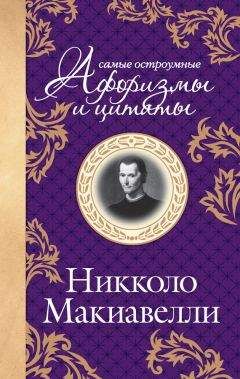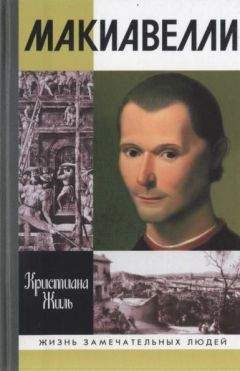Тарас Шевченко - Журнал
14 [июля]
Сегодня воскресенье, ветер все тот же. Не пора ли отойти к норд-осту? О как бы он меня обрадовал, если бы хоть к завтрему отошел. Лучше решительный удар обуха, нежели тупая деревянная пила ожидания.
В полдень ветер засвежел и отошел к норду. Добрый знак. Сегодня третьи сутки, как я не посещал вертепа мерзостей, т. е. укрепления. И это теперь мое единственное счастие, что я безнаказанно могу делать такое укрывательство. И чтобы не видеть еще сутки топорной декорации вертепа и его пьяных разбойников, я не побрился и не пошел к обедне. А перед вечером, во избежание встречи с теми же разбойниками (они по праздникам имеют обыкновение нарушать спокойствие обитателей огорода), я, надевши чистый белый чехол на фуражку и положивши в карман огурец и редьку, отправился к Телемону и Бавкиде. Телемон, вопреки своему постоянному расположению духа, был не в духе. И Бавкида, вопреки своей постоянной улыбке, была тоже не в духе и даже не показала мне своей новой соломенной шляпки, о которой я слышал стороною. Я вспомнил пословицу: «Не вовремя гость – хуже татарина» и взялся за фуражку. Но Телемон остановил меня, просил садиться и также просил свою печальную Бавкиду подать на пробу недавно полученного из Астрахани варенья, а сам принес кружку холодной воды. И после первой апробации поведал мне свое горе. Неосторожный или жадный лоцман, взявшийся представить ему товар из Астрахани, нагрузил свою утлую ладью так грузно, что при первом свежем ветре должен был половину груза выбросить в море. К несчастию Телемона и Баквиды, их товары лежали на палубе, состоящие из двух ящиков горячих напитков и 30 мешков муки, и, разумеется, первые полетели за борт. Уцелели только ничтожные мелочи, как-то: варенья, лимоны, соленые огурцы и соломенная шляпка. Откровенная беседа, как исповедь, умиляет наше тоскующее сердце. Старики, рассказавши мне про постигшее их несчастие, пришли в свое нормальное положение. Телемон простодушно начал врать о какой-то стычке с французами в 1812 году, а Бавкида показала мне шляпку и даже мантилью, а на прощанье подарила мне лимон, с которым я имею радость сегодня, т. е. в понедельник, пить чай, записывая сей визит и грустное событие, совершившееся в ущерб торговле моего Телемона и Бавкиды.
Вчера, как я сегодня узнал, несмотря на воскресенье и хорошую погоду, ни один из официю имеющих не появлялся на огороде. Странная, непонятная антипатия к благоухающей зелени. Они предпочитают пыль и несносную вонючую духоту в укреплении прохладной тени, цветам и свежей зелени на огороде. Непонятное затвердение органов. Настоящие суровые сыны Беллоны. Одно, чем я могу растолковать себе это отсутствие обоняния и зрения у суровых детей Беллоны, это всепокоряющая владычица водочка. На огороде, извольте видеть, хотя и можно пропустить рюмочку-другую, потому что сам комендант предлагает, но не[ль]зя нализаться как следует. Не потому, чтобы это было неприлично, а потому, чтобы не очутиться в Калабрии, т. е. на гауптвахте. Так что же и в самом деле за удовольствие посещать огород. Не лучше ли дома втихомолку нализаться так, чтобы в глазах позеленело. Вот тебе и огород с цветами и с благоуханием.
Независимо от этой глубокой политики, в великороссийском человеке есть врожденная антипатия к зелени, к этой живой блестящей ризе улыбающейся матери природы. Великороссийская деревня – это, как выразился Гоголь, наваленные кучи серых бревен с черными отверстиями вместо окон, вечная грязь, вечная зима! Нигде прутика зеленого не увидишь, а по сторонам непроходимые леса зеленеют. А деревня, как будто нарошно, вырубилась на большую дорогу из-под тени этого непроходимого сада. Растянулась в два ряда около большой дороги, выстроила постоялые дворы, а на отлете часовню и кабачок, и ей ничего больше не нужно. Непонятная антипатия к прелестям природы.
В Малороссии совсем не то. Там деревня и даже город укрыли свои белые приветливые хаты в тени черешневых и вишневых садов. Там бедный неулыбающийся мужик окутал себя великолепною вечно улыбающеюся природою и поет свою унылую задушевную песню в надежде на лучшее существование. О моя бедная, моя прекрасная, моя милая родина! Скоро ли я вздохну твоим живительным, сладким воздухом? Милосердый Бог – моя нетленная надежда.
15 [июля]
Ветер все тот же норд. Хоть бы на одну четверть румба отошел к осту, все бы мне легче было. В продолжение двухлетнего плавания по не исследованному еще Аральскому морю я одного раза не взглянул на компас, а в эти последние бесконечно длинные дни и ночи я изучил его во всех самомалейших направлениях. О ветер, ветер, если бы ты мог сочувствовать моему неусыпному горю, ты бы еще третьего дня отошел к норд-осту, и сегодня я бы уже сидел с карандашом в руке на палубе аргонавто[м] татарского корабля, идущего к берегам Колхиды, т. е. к Астрахани, и в последний раз рисовал бы вид своей тюрьмы. Хорошо, если бы так. А если иначе, тогда что? Тогда я и сам не знаю что.
Вчера вечером обошел я два раза укрепление и, придя на огород, прилег усталый под своей заветною вербою с крепким намерением вздремнуть хоть полчасика. Я уже другие сутки глаз не смыкаю. Но Морфей, по обыкновению, изменил мне, и я лежал себе под вербою и рассеянно слушал болтовню огородников, недалеко от [меня] расположившихся на травке. Между ними был уральский казак, он-то и владел разговором или болтовнею. После разных случаев, случившихся с рассказчиком в разных походах, свел он речь на колдунов, мертвецов и, наконец, на самоубийц. Он рассказал историю о каком-то самоубийце, которая меня совершенно не интересовала, но меня заинтересовало религиозное поверье уральских казаков о душе самоубийцы, которое он при этом случае рассказал. Самоубийцу хоронят без всяких церковных обрядов и не на общем кладбище, а выносят далеко в поле и закапывают, как падаль. В дни поминовения усопших родственники несчастного или просто добрые люди выносят и посыпают его могилку хлебным зерном – житом, пшеницею, ячменем и прочая для того, чтобы птицы клевали это зерно и молили Бога о отпущении грехов несчастному. Какое поэтически христианское поверье.
За моей памяти в Малороссии на могилах самоубийц совершался обряд не менее поэтический и истинно христианский, который наши высшие, просвещенные пастыри, как обряд языческий, повелели уничтожить.
В Малороссии самоубийц хоронили также в поле, но непременно на перекрестной дороге. В продолжение года идущий и едущий мимо несчастного покойника должен был что-нибудь бросить на его могилу. Хоть рукав рубашки оторвать и бросить, если не случилось чего другого. По истечении года, в день его смерти, а более в Зеленую субботу (накануне Троицына дня), сжигают накопившийся хлам как очистительную жертву, служат панихиду и ставят крест на могиле несчастного.
Может ли быть чище, возвышеннее, богуугоднее молитва, как молитва о душе нераскаявшегося грешника? Религия христианская, как нежная мать, не отвергает даже и преступных детей своих, за всех молится и всем прощает. А представители этой кроткой, любящей религии отвергают именно тех, за которых должны бы молиться. Где же любовь, завещанная нам на кресте нашим Спасителем-Человеколюбцем? И что языческое нашли вы, лжеучители, в этом христианском всепрощающем жертвоприношении?
В требнике Петра Могилы есть молитва, освящающая нареченное или крестовое братство. В новейшем требнике эта истинно христианская молитва заменена молитвою о изгнании нечистого духа из одержимого сей мнимой болезнию и о очищении посуды, оскверненной мышью. Это даже и не языческие молитвы. Богомудрые пастыри церкви к девятнадцатому веку стараются привить двенадцатый век. Поздненько спохватились.
Туркменцы и киргизы святым своим (аулье) не ставят, подобно батырям, великолепных абу (гробниц), на труп святого наваливают безобразную кучу камней, набросают верблюжьих, лошадиных и бараньих костей. Остатки жертвоприношений. Ставят высокий деревянный шест, иногда увенчанный копьем, увивают этот шест разноцветными тряпками, и на том оканчиваются замогильные почести святому. Грешнику же, по мере оставленного им богатства, ставят более или менее великолепный памятник. И против памятника, на двух небольших изукрашенных столбиках, ставят плошки, в одной по ночам ближние родственники жгут бараний жир, а в другую плошку днем наливают воду для птичек, чтобы птичка, напившись воды, помолилась Богу о душе грешного и любимого покойника. Безмолвная поэтическая молитва дикаря, в чистоте и возвышенности которой наши просвещенные архипастыри, вероятно бы, усомнились и запретили бы как языческое богохуление.
16 [июля]
После заката солнца заштилело, и в первом часу ночи ветер поднялся от зюйд-оста. Ветер тихий и ровный. Такой самый, какой нужен для нашей почтовой лодки. Дождавшись рассвета, я вскарабкался на самую высокую прибрежную скалу и просидел там до тех пор, пока мне захотелось есть, т. е. до полудня. Не увидевши на горизонте ни заветного, ни какого паруса, я в унынии пришел на огород и в ожидании обеда принялся за свою ветчину подорожнюю. Копченый продукт мой с каждым днем умаляется. Еще несколько дней ожидания, и от него останутся ни к чему годные руины. Хорошо, если я поеду через Астрахань. Там есть лавки сарептских колонистов, а между ими, вероятно, есть и колбасные. Без колбасы немец и дня не проживет. Следовательно, копченый продукт можно пополнить. А если придется прогуляться через Гурьев и Уральск, по злачным и серебряным берегам благочестивого Урала, тогда что? Аппетит в торбу, а зубы на полку. Или, во избежание голодной смерти, прикинуться ворожейкой, а лучше всего мучеником за веру, расстригою-попом: тогда, как по щучью веленью, все явится перед тобой, начиная с каймака и джурмицы и оканчивая свальным грехом. Мать единственную дочь свою предложит святому мученику за веру для ночной забавы. Отвратительно! Хуже всяких язычников.