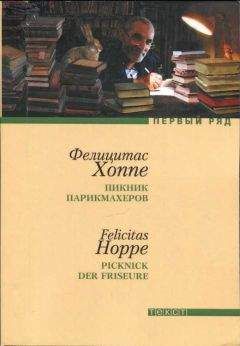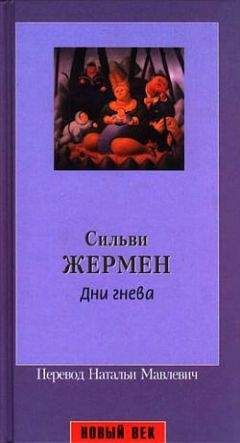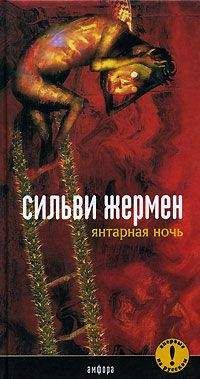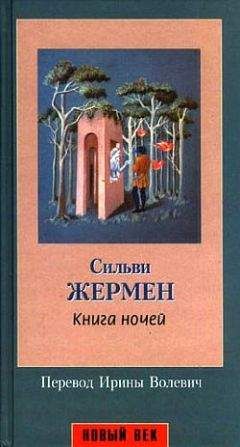Сильви Жермен - Безмерность
Спасение, спасение — в чем оно заключается, и вообще, что оно означает? Какого дьявола этот вопрос, который Прокоп ни разу не задавал себе за более чем пятьдесят прожитых лет, вдруг вынырнул у него в мозгу?
Вернувшись в гостиную с двумя откупоренными бутылками пива, Алоис обнаружил, что Прокоп стоит на четвереньках, чуть ли не касаясь животом вершин гор, и взгляд его устремлен на ягодицы куклы-телеграфисточки. Алоис расхохотался.
— Да ты прямо как мальчишки, — давясь смехом, сказал он. — Стоит им увидеть мою Зденичку, и они глаз не могут оторвать от ее проштемпелеванной попки, так что приходится каждый раз заново рассказывать им историю заместителя начальника станции и телеграфистки.
— Да уж знаю, — с трудом поднимаясь на ноги, ответил Прокоп. — Ты замечательный рассказчик, и твой гениальный рассказ однажды вдохновил моего Ольбрама разукрасить попку своей одноклассницы переводными картинками с веселыми поросятами. Мамаша девчонки потом долго возила меня мордой по столу.
Они сидели на диване, попивали пиво и наблюдали за тем, как по рельсам с легким гудением бегут поезда. За окнами пошел мелкий снег. Алоис, как обычно, свернул разговор на свою излюбленную тему — театр. И, как всегда, заговорил о своих любимых драматургах — Чехове и Шекспире. В последний раз, то есть двадцать лет назад, он выходил на сцену, чтобы сыграть чеховского дядю Ваню, и с тех пор эта роль не отпускала его. Он столько лет пережевывал реплики несчастного дяди Вани, что в конце концов они стали как бы его собственными. Жена Алоиса Маркета утверждала даже, что нередко по ночам он произносит во сне монологи чеховского героя. Но уже довольно давно Алоиса захватил новый герой — король Лир. «У меня как раз возраст для этой роли, — говорил Алоис, ероша свои седые волосы, — а главное, я же его чувствую, чувствую!» Роль эту он знал наизусть. «Все верно, — подтверждала Маркета, — он переменил свой ночной репертуар и шпарит теперь монологи короля Лира, но от этого мне не легче. А если не декламирует, то храпит».
На улице все так же сыпал снег, и белесый свет сочился в окно гостиной, где Алоис, который никогда не сыграет короля Лира, разглагольствовал о своих драматургических пристрастиях.
Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки!
Лей, дождь, как из ведра, и затопи
Верхушки флюгеров и колоколен!
Вы, стрелы молний, быстрые, как мысль,
Деревья расщепляющие, жгите
Мою седую голову![12]
3
В одно январское утро Прокоп очищал тротуар от снега и обратил внимание на маленькую старушку, которая чуть дальше по улице прыгала возле бака для бутылок и прочего стекольного боя. На ней было зимнее пальто, вытертое до такой степени, что его некогда черный цвет превратился в буро-зеленый, с желтым меховым воротником. Из-под шерстяной шапочки выбивались пряди волос, седина которых отливала той же желтизной, что и кроличий воротник пальто. Башмаки, изрядно смахивающие на солдатские, в которые она была обута, похоже, болтались у нее на ногах, несмотря на несколько пар шерстяных носков, завернутых валиками над лодыжками.
Уцепившись одной рукой за край высокого пузатого бака, старушка безуспешно пыталась перегнуться через борт и что-то достать, видимо со дна. Но бедная старушка была слишком низенькая, худенькая и, наверное, еще более хрупкая, чем выброшенные в бак банки и бутылки. Прокоп слышал, как она поистине отчаянным тоном причитает: «Господи Иисусе! Господи Иисусе!» — однако попыток выловить то, что ее привлекло, не прекращает. Прокоп приставил к стене деревянную лопату и направился к ней, намереваясь предложить свою помощь. И тут, даже не оборачиваясь к Прокопу, старушка указала на предмет ее желаний и произнесла жалобным голосом:
— Очень вас прошу! Мне очень хочется взять вон то зеркало. Оно даже не разбито!
Прокоп нагнулся и извлек из осколков битого стекла зеркало.
— Только будьте осторожнее! Ради Бога, не порежьтесь! О Господи! — щебетала старушка, молитвенно сложив руки перед грудью.
Прокоп протянул ей зеркало.
— Боже мой! — воскликнула она, хлопая в ладоши, как девочка. — Оно и вправду целое!
Да, оно было целое, но все в черных пятнышках. Старушка с бесконечной осторожностью приняла зеркало из рук Прокопа.
На какой-то миг она неподвижно замерла, склонившись сияющим от радости лицом над зеркалом. Явно не собственное отражение так восхитило ее, ведь, наверное, уже давно она перестала обращать внимание на свое морщинистое, усеянное старческими пятнами лицо с пробивающимися на губах, на подбородке жесткими волосками. Она глядела в зеркало, не видя себя; ее взгляд проникал гораздо глубже собственного отражения, во всяком случае, был устремлен в некое «далёко». И «далёко» это не имело никакого отношения к воспоминаниям. То было «далёко», включенное в здесь и сейчас, в то, что зримо, и в настоящее мгновение. Прекрасное далёко, вышедшее на поверхность зримого и лучащееся детской радостью.
Мороз был сильный, и очень скоро зеркало от дыхания старушки покрылось изморозью; тогда она достала из кармана пальто носовой платок и вытерла зеркало, но оно почти сразу же опять затуманилось. Она снова вытерла. Все это время Прокоп неподвижно, несмотря на мороз, стоял рядом с ней. Он смотрел на старушку, погруженную в созерцание зеркала, видел пелену, мгновенно покрывающую поверхность стекла, потом отражение, появляющееся, как только ее стирали, но буквально через несколько секунд оно вновь начинало затуманиваться. И ему показалось, будто отражение становится все более и более просвечивающим и одновременно с этим лицо старушки как бы очищается. Это вовсе не означало, что с него исчезали морщины и бородавки, что оно становилось моложе; оно по-прежнему было лицом старой женщины, не придающей значения своему жалкому виду, но все равно как-то преображалось. В ней поднималось какое-то сияние, освещающее изнутри ее лицо. И старая женщина становилась прозрачной.
Прокоп, хотя было страшно холодно, стоял не шелохнувшись, не смея даже постучать ногой о ногу. Он любовался старушкой, восхищенный прозрачностью, которая постепенно наполняла ее. Он видел ее такой, каким, должно быть, предстает после смерти каждый человек, — в абсолютной обнаженности своей сущности. И Прокоп старался не дышать, боясь замутнить старушку, биение обнаженного сердца которой совершенно отчетливо виделось ему. Сердца из плоти и переживаний, которому было все известно — желание и радость, любовь во всех ее проявлениях, а возможно, и ненависть, горести, заботы и слезы. Людское сердце в конце пути, сердце старухи, настолько одинокой, настолько всеми покинутой, что достаточно самой ничтожной малости, чтобы на несколько мгновений сделать ее счастливой. Сердце, которое очень скоро должно будет предстать.
Где? Перед кем?
Внезапно все запутанные вопросы, которые уже довольно давно повергали Прокопа в смятение, снова встали перед ним. Ему вновь явились его отвислое брюхо, урчащее закрученными многословными строфами, и голая попка куклы-телеграфисточки, стоящей на перроне картонного вокзала в окружении ангелочков и чертенят. Все это смахивало на головоломку, на ребус. Элементы при всей их кажущейся несовместимости начинали складываться. «Стыдная плоть», оказывается, не что иное, как тело, алчущее исключительно отдыха, удовольствий и приятных, а то и пьянящих ощущений, тело, преисполненное эгоистического удовлетворения, интересующееся, в соответствии с возрастом, только собственной красотой, собственной силой, собственной привлекательностью, собственным здоровьем. Тело, настолько занятое самим собой, что душа, помутневшая в нем, не просвечивает ни единым, даже самым слабым лучиком. Тело, которое предстает некой замкнутой целостностью, сосредоточенной на себе самой, и существует, чтобы приносить удовольствие только лишь себе. Тело, что призывно кричит всем другим телам, воспринимаемым как приукрашивающие зеркала: «Любуйтесь мной! Восхищайтесь мной! Вожделейте ко мне! Ублаготворяйте меня!» Стыдное тело, корчащееся от самовлюбленности, от чревоугодия, оно сосредоточено лишь на собственном брюхе да на подбрюшье, и душа у него мясистая, как задница, на которой проштемпелеван простодушный и вызывающе-наглый лозунг: «А мне насрать на все, что не я, на все, что не является мною — мною, таким прекрасным, осязаемым и желанным, насрать на все, что не есть наслаждение и сила».
А вот старушка с извлеченным из мусорного бака зеркалом, мутным, испещренным черными точками, символизировала нечто совершенно иное. Все ее существо говорило о уязвимости плоти, о ее медленном разрушении с ходом времени, демонстрировало самонедостаточность тела. Но главное, сквозь увядание, изношенность постепенно утрачивающего корни тела открывалась его внутренняя множественность. Как охровый цвет является результатом смешения нескольких красок, так и тело объединяет в единое целое множество форм и энергий, которые не различишь с первого взгляда. Нужно долго, терпеливо и внимательно созерцать охру, чтобы потихоньку начали выявляться составляющие ее цвета; всего удобнее это делать, когда охра уже выцвела, полиняла от дождей и солнца. Тогда-то, одна за другой, использованные краски проявляются в том порядке и в том количестве, в каком они были смешаны друг с другом. Глядя попятным взглядом, можно разложить охру и дойти до ее истоков, увидеть первичный фиолетовый тон, подкоричвленный чистейшим желтым, а потом разложить фиолетовый на пурпурный и синий и оценить их количественное соотношение. Соответственно, если долго наблюдать за человеком, можно проникнуть сквозь его внешнее обличье и обнаружить другие силуэты, замкнутые в нем, а также составляющие его части тьмы и света. У некоторых стариков бывает, что явственней всего проявляется самое давнее тело; освободившись от забот о своей внешности, они обретают какую-то беспечность, прямо-таки простодушную откровенность в выражении своих переживаний и чувств. Однако это вновь начинающее лучиться зернышко первичной детскости перекрывают множество других телесных оболочек — любовника, супруга, родителя, а также работника, и еще оболочки бессонниц, страданий, усталостей, огорчений, болезней, трауров. Бывают люди, у которых хаос этот затвердевает, сгущается в жирные черные конкреции, а бывают и другие, у кого наслоения эти становятся мягкими, лучащимися, просвечивающими. Старушка с зеркалом принадлежала как раз к таким.