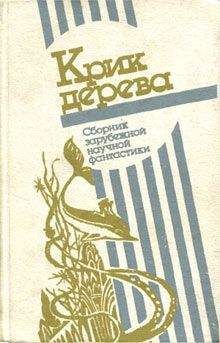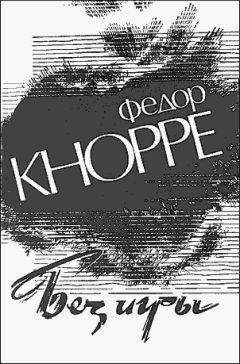Фёдор Кнорре - Папоротниковое озеро
— Что ты остановился? — удивилась Соня и вдруг тихонько рассмеялась.
— А ты? Чего ты смеешься?
— Значит, хорошо — раз смеюсь. А ты не понимаешь? Ах, понимаешь? Тогда скажи: что?
— Понимаю.
— Все?.. Все, понимаешь? Все-все?
Она все пытливее, нетерпеливо его переспрашивала, уже уверенная, что он все понял, и они не сразу заметили, что уже стоят, крепко обнявшись, и целуются, не отрываясь, в первый раз в жизни и не могут оторваться. С восторгом они чувствовали, что происходит именно то, чего им так не хватало, чтоб освободиться от гнетущей тяжести, давившей их все последние бессмысленно-радостные и пустые дни. Их точно отпустило что-то, и они переступили трудный порог — до того легко, и радостно, и ясно все сделалось. Потом, держась за руки, они поднялись на свой третий этаж. Только на последних ступеньках Соня отпустила его руку и достала ключ.
Степана, конечно, еще не было дома, но его по-солдатски заправленная койка у стены как бы хранила его присутствие. И когда они сели за стол пить чай — третья чашка для Степана осталась дожидаться его прихода, — пока они по очереди ходили в ванную, в дальний конец коридора — мыться, и после, тоже по очереди, улеглись по постелям, не видя друг друга, — все три постели стояли головами к окну… и даже теперь, столько немереных лет спустя, все это нисколько не казалось странным Тынову. В который раз в тишине и сумраке лесной избы, с горячей от напряжения головой, он все передумывал опять и опять и снова убеждался, что ничего не хочет трогать, менять в неприкосновенном мире этого воспоминания. В тот вечер, когда они провожали «Хильдегарду», им оставалось еще одиннадцать долгих дней его первого и, как оказалось, последнего до войны отпуска. Потом их стало восемь… пять… три последних полных дня… и еще один день без вечера. Они бродили целыми днями по городу и целовались у гранитных парапетов пустынных набережных на скамейках Летнего сада… Тихонько, внимательно и нежно… Или отчаянно стискивая друг друга, точно уже дохнуло на них ледяное веяние надвигающейся разлуки навсегда. Каждый день, прежде чем подняться наверх и лечь спать, они целовались в последний раз у чугунного столбика — арапчонка с корзинкой на голове. Это были последние минуты, когда ничто им не мешало, не удерживало, они были свободны, отъединенные от времени, от всего мира. Тишина, вечно наглухо запертые двери парадного подъезда, за которыми редко слышались шаги прохожих, тонкий запах старинного дерева широченной лестницы, полусвет и глубокие тени от единственной лампочки на втором этаже. Тут было лучше, чем в саду, на набережной, под аркой, — тут не улица и не «дом», а какой-то порог, единственное место, где они могли и имели право быть наедине. И все это кончалось, когда они вдвоем оказывались в их общей комнате с отсутствующим Степой, чья любовь к ним обоим безмерно роднила их, сближала и сковывала своим беспредельным доверием… Почему это он теперь вдруг все стал припоминать, как будто старался по порядку расставить дни, слова и мгновения, точно надо было привести в порядок и кому-то все изложить и объяснить?.. Да, кажется, так оно и было. Смешно, нелепо и дико. Ведь полтора года он никому ничего не рассказывал. А сегодня, на ходу провожая всю компанию к машине, что-то рассказал этой чужой девушке… Ну, рассказал, и ладно. Это куда ни шло. А кому он теперь-то пытается объяснить, в одиночестве лежа на топчане в своей темной, ночной избе смешно и нелепо, да ведь этого никто никогда не узнает! Только сам он, один знает — рассказывает все он тоже ей, продолжает, что начал на тропинке, в папоротниках!
Он рассмеялся невеселым смешком, закурил и крепко затянулся несколько раз, с силой выпуская дым к потолку. Клубящаяся струя, невидимая в темноте, попадала в полоску слабого света от окна, оживала и таяла в черноте…
Что потом? Вокзальная платформа, светлый вечер, смех, оживление, шутки, они со Степаном у окошка вагона. Какое-то беспамятство волнения и беспрестанные шутки. Почему мы так много, бездумно и бодро смеялись, шутили? Ах, вот оно что! Мы ведь как бы передразнивали, вышучивали обычай чувствительных, торжественных, плаксивых проводов с их ритуальными пожеланиями, напутствиями и предчувствиями. Нам-то ведь все было нипочем! Проводы были пустячным мигом в их бесконечной, только начинавшейся, долгой, захватывающей, радостной, небывалой жизни. Поезд тихонько, неслышно тронулся, и стало еще веселей! Поехали. Все замахали, закричали, совсем уже смеясь. Как и все провожающие, Соня улыбалась и шутливо их подбадривала, а они со Степаном тоже ее подбадривали, уговаривали не плакать. Вслед за двинувшимся вагоном она прошла несколько шагов, наткнулась на какие-то ящики, сваленные на платформе, легко вспрыгнула на них и осталась стоять над толпой, тихонько покачивая поднятой рукой. И когда ему стало известно, что она умерла, так же, как, наверное, почти все, а может, и все, кто толпился в тот вечер на платформе, провожая московский поезд, когда стало известно даже и то, что похоронена Соня на блокадном Пискаревском кладбище, — он никогда так и не смог до конца поверить, что это есть настоящая правда. Умом он все понимал: блокада, голод, долгий голод и Пискаревское кладбище в конце — это чудовищная, безобразная, жестокая правда. Невыносимая, но все-таки и не полная, не окончательная.
Разве она не стояла над медленно движущейся, рассыпающейся толпой, машинально покачивая высоко поднятой, тоненькой рукой, уже позабыв улыбаться, в беспамятстве прощального волнения? Это и была безусловная правда, та, которую он твердо знал и видел своими глазами и не мог перестать знать. А все, что впоследствии ему стало известно из слов пли письма, уже не могло быть окончательной, полной и единственной правдой. Только объяснить этого никому нельзя — подумают, свихнулся.
Обычный вечерний поезд уходил светлым вечером из мирного города с его будничным шумом. Звонили трамваи, громыхая по жарким улицам: старинные здания отражались в тихой воде каналов среди темных стволов и зелени Летнего сада белели статуи, толпы людей текли по Невскому вдоль тротуаров хрупкие древние чаши, бережно разложенные поодаль друг от друга, покоились на бархате за стеклами стендов в благоговейной тишине музеев, гудели заводы на окраинах, и ни один человек во всем громадном городе не знал и не мог бы понять смысла слов: «голодная блокада», «бомбежка», «артобстрел»… Долгое время спустя, па очень далеком от Ленинграда фронте, мало-помалу до них стал доходить истинный смысл этих слов, и наконец родилась у них нелепая, несбыточная мечта: вдруг как-нибудь так получится, что кто-нибудь из них двоих — Степан или Тынов, это все равно — попадет с каким-нибудь транспортным самолетом в Ленинград и спасет Соню. От голода спасет. Привезет ей такой пакет, который поддержит ее силы, и вот она поест и поправится, поздоровеет и благополучно доживет до снятия блокады, до Победы, до новой счастливой жизни после войны.
Они стали собирать шоколад, всякие коробки с НЗ. Всеми правдами, а больше неправдами, собирали все ребята в их полку — «Степе Палагаю, у которого сестренка в блокаде». И собрали, среди прочего, десять коробок, плоских, с герметической резиновой прокладкой по краям, плотно набитых толстыми плитками шоколада. Все это было плотно связано в небольшой пакет, впоследствии отчасти знаменитый пакет, который Степан не желал выпускать из рук, отказываясь от наркоза перед тяжелой операцией в госпитале, до тех пор, пока военврач, хирург, не дал слова спрятать пакет в свой сейф. Несмотря на то что сейфа у хирурга не было, пакет сохранился в целости, и, когда многие месяцы спустя Степан, прихрамывая на своих обгоревших, переломанных ногах, вышел наконец из госпиталя, нелепая его мечта сбылась! Вторым пилотом на транспортном «Дугласе» он полетел в Ленинград.
Об этом стало известно какое-то время спустя из одного-единственного письма Палагая, присланного в штаб полка «на всех». В самом конце там было приписано: «Ване Тынову передайте, что Соня умерла». Вот, и больше вестей о себе не подавал. В последний период войны судьба их далеко разбросала в разные стороны, и они совсем потеряли друг друга из виду. На письма, посланные почти наугад, когда и война давно уже кончилась, Степан ни разу не ответил. И вдруг, воротившись из полугодового плавания, Тынов обнаружил у себя на столе конверт, провалявшийся уже несколько месяцев. На конверте необыкновенно четко, печатными буквами выведен был обратный адрес. Письмо было от Палагая. Три строчки: «Ваня, а что бы тебе приехать повидаться? Мне бы поговорить с тобой. Ну, это, конечно, как сможешь.
После этого письма Тынов и переступил в первый раз порог этой лесной сторожки, которая каким-то образом сделалась его домом вот уже не полтора… нет, скоро два года! Бежит время, бежит!.. И ничего уже не меняется. Разве вот только это?.. Удивительное дело, до сих пор едва слышно, тонко пахнет женскими духами! Это в их-то с Барханом логове — и духи? Потеха! Он внимательно вдохнул несколько раз. Не то что запах, а отзвук, эхо запаха ее духов чуть веяло откуда-то. За долгов время жизни в лесу на чистом воздухе, в одиночестве, обоняние у него обострилось необыкновенно. Несколько раз ему случалось заметить, что отчетливо чувствует запах человека, который незадолго до пего прошел по лесной тропинке. Он стал доискиваться — откуда тянет запахом духов — и нашел. Оказывается, на материи его грубой рубашки, там, где лежала ее рука. На правом плече. Он позволил себе подышать минутку этим слабым, ускользающим запахом и усмехнулся. Ничего, голубчик, скоро выдохнется… пройдет и угаснет запах, как все прошло и погасло…