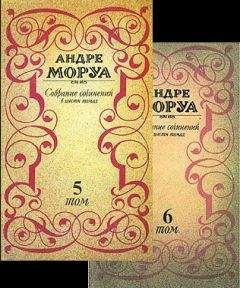Роже Гар - Семья Тибо (Том 1)
Антуан скептически отмалчивался. Он по опыту знал, что специалисты по внешней политике всегда предрекают неизбежные конфликты. Он позвонил Леону и стоял у дверей, ожидая, когда придет слуга, чтобы перейти наконец к вещам посерьезнее, и весьма неблагосклонно поглядывал на Рюмеля, который, увлекшись своей темой и позабыв о времени, расхаживал взад и вперед перед камином.
Отец Рюмеля, бывший сенатор, некогда был приятелем г-на Тибо (он умер как раз вовремя, чтобы не видеть, как сын поднимается по лестнице республиканских почестей). Антуану и прежде нередко приходилось встречаться с Рюмелем, но зачастил он к Антуану, по правде сказать, только в последнюю неделю. И с каждой встречей довольно суровое мнение о нем Антуана становилось все определеннее. Антуан заметил, что сквозь эту неослабную словоохотливость, сквозь скороспелую любезность "влиятельного лица", сквозь интерес к важным проблемам то и дело проскальзывает что-то обывательское, с наивной откровенностью обнаруживая самое обыкновенное честолюбие; честолюбие было, по-видимому, единственным сильным чувством, на какое вообще был способен Рюмель; Антуан считал даже, что оно несколько не соответствует его действительным возможностям, по мнению Антуана, ограниченным. Впрочем, недостаток образования, робость без скромности, отсутствие твердости в характере - все это было ловко скрыто под внешним лоском будущего "великого человека".
Тем временем Леон пришел за телеграммой. "Ну, хватит на сегодня политики", - сказал про себя Антуан, оборачиваясь к продолжавшему разглагольствовать Рюмелю.
- Так что же? Всё по-прежнему?
Лицо Рюмеля внезапно омрачилось.
Как-то вечером около девяти часов, в начале прошлой недели, Рюмель, бледный, как смерть, появился в кабинете Антуана. Заразившись дня за два перед тем известного рода болезнью, о которой он не решился довести до сведения своего постоянного врача, а тем более кого-либо постороннего ("Понимаете, мой друг, ведь я женат, - говорил он, - я до некоторой степени лицо официальное, и моя частная и общественная жизнь так легко может стать жертвой чьей-либо нескромности иди шантажа..."), - он вспомнил, что молодой Тибо тоже врач, и явился к Антуану, умоляя взяться за лечение его болезни. После тщетных попыток направить его к специалисту Антуан, всегда готовый пустить в ход свое искусство и заинтересовавшийся этим политическим деятелем, наконец согласился.
- Никакого улучшения? Неужели?
Рюмель уныло покачал головой, не ответив ни слова Этот болтун не мог заставить себя говорить о своей болезни, признаться, что иногда он испытывает адские мучения и что сегодня еще, после дипломатического завтрака, ему пришлось прервать важный деловой разговор и поспешно выйти из курительной комнаты, настолько мучительны были приступы боли.
Антуан подумал немного.
- Ну что ж, - сказал он решительным тоном, - придется испробовать ляпис...
Он открыл дверь в "лабораторию" и ввел туда Рюмеля, который окончательно смолк; затем, повернувшись к нему спиной, он приготовил раствор и наполнил шприц кокаином. Когда он вернулся к своей жертве, та уже успела снять с себя парадный сюртук. Без воротничка, без брюк, Рюмель превратился в жалкого, униженного, замученного болью и тревогой пациента, который неловко освобождался от покрытого пятнами белья.
Но он еще не окончательно пал духом. Когда Антуан приблизился к нему, он приподнял голову и попытался улыбнуться хоть сколько-нибудь непринужденно, несмотря на то, что невыносимо страдал. Страдал он и от морального одиночества. Ведь обрушившаяся на него неприятность усугублялась в довершение всего невозможностью окончательно сбросить маску, признаться кому-нибудь, каким глубоким унижением не только для его плоти, но и для его гордости был этот дурацкий случай. Увы, кому мог он довериться? У него не было друга. Вот уже десять лет, как политика обрекла его на жизнь за глухой стеной одиночества в кругу державшихся по-товарищески, но лицемерных и недоверчивых сослуживцев. Кругом не было никого, с кем бы он мог завязать настоящую дружбу. Впрочем, нет, был такой человек - его жена; в сущности, она была его единственным другом, единственным существом, которое знало и любило его таким, каков он был на деле, единственной, кому он мог бы довериться с чувством облегчения, - но увы! Именно от нее ему приходилось тщательнее всего скрывать случившуюся с ним беду.
Ощущение физической боли положило конец его размышлениям. Ляпис начал действовать Рюмелю удалось подавить первые стоны. Но вскоре, несмотря на применение болеутоляющего средства, он уже оказался не в состоянии сдерживаться, как ни стискивал зубы, как ни сжимал кулаки. Глубокое прижигание исторгло у него вопли, подобные воплям роженицы. В голубых глазах заблестели крупные слезы.
Антуану стало его жаль.
- Ну, будьте молодцом, мужайтесь! Я кончил. Это больно, но необходимо. Сейчас все пройдет. Лежите спокойно. Я введу еще немного кокаину.
Рюмель не слушал его. Распластанный на столе, под неумолимым рефлектором, он судорожно дергал ногами, словно препарированная лягушка.
Наконец Антуану удалось смягчить боль.
- Сейчас четверть пятого, - сказал он, - в котором часу вам надо уходить?
- То... только в пять, - пролепетал несчастный. - Мой автомобиль... ждет у подъезда.
Антуан улыбнулся дружеской, ободряющей улыбкой, но под ней таилась другая улыбка: ему невольно представился хорошо выдрессированный шофер с трехцветной кокардой, который ожидает, невозмутимо сидя у руля, господина чиновника особых поручений при министре; ему представился красный ковер, который сейчас, наверно, раскатывают под полотняной крышей выставочного павильона по этому ковру через какой-нибудь час этот самый Рюмель, дрыгающий сейчас ногами, как сосунок, которого перепеленывают, красавчик Рюмель, затянутый в сюртук и с неопределенной улыбкой под своими кошачьими усами, пройдет размеренным шагом навстречу маленькой королеве Елизавете.
Но Антуан отвлекся лишь на минуту. Скоро перед глазами врача остался только больной; даже меньше того - просто случай из практики, и даже еще меньше - результат химической реакции: действие прижигающего средства на слизистую оболочку, действие, которое он, Антуан, сознательно вызвал, за которое отвечал и о последствиях которого сейчас раздумывал.
К действительности вернул его Леон, осторожно постучавший три раза в дверь "Пришла Жиз", - подумал Антуан, бросая инструменты на подставку автоклава. Но как ни спешил он теперь расстаться с Рюмелем, привычка не шутить с профессиональными обязанностями заставила его терпеливо ждать, пока у несчастного утихнет боль.
- Отдыхайте здесь, сколько хотите, - сказал он, выходя, - эта комната мне не понадобится. Когда будет без десяти пять, я вам сообщу.
VII
Леон сказал Жиз:
- Будьте добры, мадемуазель, обождите здесь...
"Здесь" - это была прежняя комната Жака, уже охваченная надвигающимися сумерками, наполненная мраком и тишиной, точно склеп. У Жиз, когда она переступила порог, забилось сердце, и усилие, которое ей пришлось сделать, чтобы победить свое волнение, приняло, как всегда, форму молитвы, короткого призыва к тому, кто никогда не оставляет без помощи. Затем она машинально опустилась на раскладной диван, на тот самый диван, сидя на котором она столько раз, и в детстве и в отрочестве, болтала с Жаком. Сейчас до нее доносились (из приемной или с улицы?) шумные всхлипыванья ребенка. Сама Жиз с трудом удерживалась от слез: в последнее время они начинали душить ее из-за всякого пустяка. К счастью, в настоящую минуту она совершенно одна. Нужно посоветоваться с доктором. Только не с Антуаном. Она чувствовала себя неважно, похудела. Он бессонницы, наверное. Это ведь ненормально в девятнадцать лет... С минуту она размышляла о том, какой странной цепью протянулись эти девятнадцать лет: нескончаемое детство в обществе двух стариков, - а потом это великое горе, постигшее ее в шестнадцать лет и усугубленное такими тягостными тайнами!
Леон вошел, чтобы зажечь свет, и Жиз не решилась сказать ему, что ей приятнее окутывающая ее полумгла. В комнате, которая теперь осветилась, она узнавала каждый предмет меблировки, каждую безделушку. Чувствовалось, что Антуан, из уважения к памяти брата, сознательно ничего не тронул; но с тех пор как эта комната стала его столовой, все предметы переместились, переменили свое назначение, все приняло совсем другой вид: посреди комнаты стоял раздвинутый обеденный стол; на письменном столе, уже не выполнявшем своего прямого назначения, между хлебницей и компотницей красовался чайный сервиз. Даже книжный шкаф... Прежде эти зеленые занавески за стеклами не задергивались. Одна из занавесок была слегка отодвинута, и Жиз, наклонившись, увидела блеск посуды; Леон, очевидно, сложил все книги на верхние полки... Бедный Жак! Что бы он сказал, если бы увидел свой книжный шкаф превращенным в буфет!