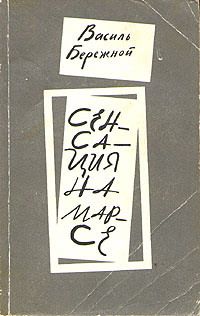Дмитрий Ризов - Ловцы
— А мы сами знаем, чай, местные, — улыбнулась она.
— Мам! Давай без остановок, сразу до места, — позвали ее ушедшие вперед мальчишки.
Володя выждал, пока они отойдут подальше, обежал речку до тракторного моста. На сваях из буровых труб покоились отработанные буровые «свечи», тесно уложенные одна к одной. Просвета между настилом и водой почти не было, даже лодке не протиснуться. Воздух здесь звенел от ребячьего визга, песчаное мелководье кипело, разлеталось фонтанами от ударов десятков загорелых рук и ног. Набултыхавшиеся до посинения, неслись во весь дух на мост, блаженно валились на раскаленные солнцем трубы, прижимаясь к ним то животами, то спинами, оставляя на металле следы, которые в следующее мгновенье испарялись, словно их слизывал с труб сухой горячий язык солнца.
Рыжика и здесь не было.
Глава шестая
Прав оказался Опресноков, считай, что теперь Милюки у него — как мухи в паутине: кого захочет, того и потянет… Милючиха — на что уж большая любительница лясы поточить с соседками, сидючи на лавочке у ворот, семечки полузгать, глазами провожая проходящих и все-все в них подмечая, — два вечера среди соседок не появлялась. А это что-нибудь да значит! Она перестала, как обычно, по утрам провожать корову, а по вечерам встречать из стада: лишь откроет калитку, выпустит — шагай дальше сама. Вечером ее Зойка самостоятельно добиралась до ворот, ревом вызывала хозяйку, та быстренько ее впустит и калитку захлопнет, будто за хвостом коровьим кто-нибудь еще может увязаться во двор. Компания соседок переместилась на другую лавочку, по ту сторону улицы, и оттуда вела наблюдение за домом недавней своей предводительницы. О Рыжике они поначалу говорили такие вещи, что кровь в жилах стыла, и действительно: кто его с той ночи видел? Никто. Значит… Словом, новости, слетающие с их языка, были настолько захватывающими и противоречивыми, что страсти вокруг этого дела разгорались день ото дня. Соседки еще даже как следует не решили, на ком остановить свою неизбывную бабью жалость. Хотя уже и начали Милюков жалеть больше, и чем дальше, тем определеннее. А Рыжика все чаще поминали как потерпевшего, который сам «учудил свою беду на собственную голову».
Разговор начинали они с горячего перешептывания, незаметно входили в раж, забывались, вскоре галдели уже всерьез, спеша наперебой во что бы то ни стало высказать каждая свое соображение. Со стороны прислушиваться — пустое занятие. Среди крикливых голосов, где каждая гнула свое, ничего связного не уловишь. Чтобы разобраться в галдеже, требовалось быть в их компании, а вход туда посторонним заказан. Лишь избранные удостаивались этой чести, обычно же бабья компания пополнялась за счет своих же подрастающих молодух или пришлых невесток. Зато и понимал друг друга женский пол на их улице с полуслова.
Вечером того дня, когда Володя Живодуев бегал в поисках пропавшего приятеля, калитка милюковского дома открылась, на улицу вышел сам. Так в их городе стали звать сильно поредевших после войны глав семейств. Хозяек, оставшихся без мужиков, звали сама. И какой разный смысл вкладывался в эти два столь похожих слова! Сам — звучало тяжеловато, плотно, что ли, во всяком случае, уверенно и… тепло. Всеразрешающая сила слышалась в слове сам. А в сама угадывалась, извините уж, маета, измочаленные о стиральную доску, изъеденные щелоком руки, красные от напряжения за швейной машинкой в полутьме глаза; в сама пустые хлопоты чудились, «гадания на кофейной гуще», ходьба по инстанциям — о помощи, о «пензии» за кончившего жизнь раньше времени самого, об устройстве детей, отбивающихся от рук. Сама — она и есть сама. Этим все сказано.
Милюковского дома сам, главный Милюк, мужчина был роста не высокого, но плотный, с тяжелыми, очень сильными руками, и лицом удивительно похожий на Милючиху, будто они не муж с женой, а брат с сестрой. По одной из примет выходит: если за сложившуюся семейную жизнь люди стали похожими даже внешне, значит, на них высшая милость снизошла, у них теперь не просто там какая ни на есть семья, а что-то значительно большее — семья; родство, значит, их установилось в пределах наивысшей пробы, то есть с какого конца к нему ни подойди — все везде добротно.
Милюк вышел в галошах на босу ногу, рукава серенькой рубахи закатаны по локти, и направился прямиком к галдящим бабам. Те замерли на полуслове. Подошел хмурый, расстроенный, видать, сильно, спросил:
— Ну что вы, бабы, галдите? Чего вы в самом деле? — Повернулся и ушел обратно.
Те, оглушенные, посидели еще немного и одна за другой разошлись. «В самом деле, чего это мы? — думали они. — Как галки на заборе, право слово, разгалделись. Ну, стрелял кто-то… Так что из того? И стрелял ли? А может, и стрелял — в кота…»
Когда стемнело, калитка милюковского дома опять открылась, снова вышел сам. На этот раз одет он был серьезно, будто в гости собрался: в сапогах, в новом пиджаке, в косоворотке, вышитой по вороту васильками, в гражданской фуражке, скроенной с намеком на военный лад. Пиджак с левой стороны сильно выступал плотно набитым чем-то внутренним карманом. Милюк поглядел по сторонам, собираясь с духом: на улице — никого, и направился в сторону Опресноковых.
В доме у них свет горел. Милюк несколько раз нерешительно прошелся мимо окон, но вдруг поднял руку, сильно постучал в переплет окна. Внутри отлетела занавеска, мелькнуло перепуганное лицо хозяйки, потом перетрусивший хозяин сунулся взлохмаченным лицом.
— А ну выходь!.. — позвал Милюк. — Поговорить надо. Да ты не трусь, я не драться пришел.
— Сейчас, сейчас, — закивал Опресноков.
Однако же калитку долго не открывали. Какая-то возня слышалась во дворе. Милюку показалось даже, что по крыше сеней прошел кто-то, стукнул дверцей чердака.
Наконец калитку открыли.
— Входи давай, — пригласил хозяин.
— Я финтить не буду, — взял быка за рога Милюк, входя во двор. — Зачем пришел, чай, сам знаешь. Где можно с глазу на глаз, чтобы никто ни-ни?
— В сарае можно. — Опресноков возбужденно хихикнул, потер руки:
— Там только куры-дуры да умные овечки.
— А свет?
— Свет? Какой свет?
Милюк зло плюнул в сторону:
— Ты что, в самом деле дурак? А я думал, люди языками только чешут. Думаешь, я тебе без расписки что-нибудь дам? Тебе только дай…
— Ты бы слова выбирал, — обиделся Опресноков. — Я могу ничего не брать и расписки не писать. Я могу и по закону, не кривя совестью. И так совестью через вас кривлю, а они еще — «дурак». Больно сами умны… А это заявление видел? — Он вытащил из кармана бумагу, махнул перед лицом Милюка.
— Я заявление твое и покупаю. Не дешево… Свет нужен. — Милюк вошел в сарай.
Опресноков некоторое время стоял, колеблясь. Он с самого начала знал: Милюк никуда не денется, прибежит как миленький. Да что-то заносчив явился! Может, плюнуть? Еще выждать денек? Оно ведь чем дальше, тем щекотче. Завтра, может, на коленях уже приползут. Но, с другой стороны, ранки-то у Тольки действительно пустяк. Как на собаке заживают. Еще два-три дня, коросточки отпадут, и хоть целуй его в это место, как в христово яичко. И Опресноков решил: видать, дело его более чем сейчас созрело, уже не вызреет. Надо идти за светом…
Как мужики там в сарае торговались и на чем сошлись, об этом, кроме них двоих, никто никогда не узнает. Расписку потом, когда гроза миновала, Милюк в печке сжег, чтобы, глядя на нее, душу не травить.
Дверь в сарай при торге была закрыта, даже заперта да щеколду изнутри. Наружу через одну лишь щелку пробилось чуть-чуть света от свечки. Рыжик, приоткрыв дверцу чердака, ничего увидеть не смог, сколько ни вглядывался в темноту. Вдруг свет в щелке потух, дверь открылась, две фигуры двинулись друг за другом к воротам: впереди Милюк, отец следом. Выступ крыши спрятал их от Рыжика. Но он услышал у ворот какую-то странную возню, пыхтение, топот натужно переступающих ног, будто там боролись. Вот они появились в полосе света под окном: Милюк крепко держал отца одной рукой за ворот, а другой за штаны, в том самом месте, куда Рыжику досталось солью. Он тянул за это место отца рывками вверх, словно собирался закинуть его себе на плечо, как мешок с картошкой, а другой рукой толкал в загривок к земле. Находился отец в положении жалком, он едва касался носками земли и, отпусти Милюк разом обе руки, непременно упал бы лицом в землю, но тот все не отпускал, а потом, изловчившись, отвесил пинок такой силы, что отец полетел головой вперед через веники в огород, рухнул там грузно, глухо пристанывая и всхлипывая.
Рыжика от дверей отбросило в глубину чердака. Если отец узнает, что он все это видел, — хоть из дому беги, ввек не простит.