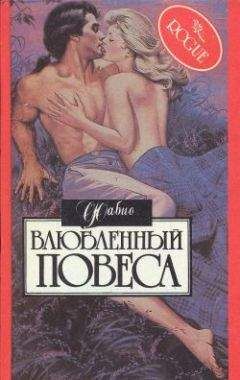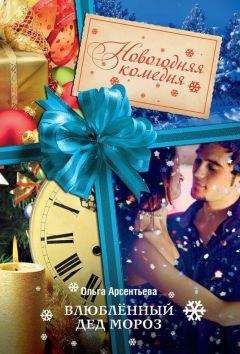Иван Лазутин - Суд идет
— Наверное, с факультета? — спросила Ольга.
— Наверное, — тихо ответил Дмитрий. — Вот уже четвертый день друзья осаждают врачей. Звонят в день раз по двадцать. Даже решили шефство надо мной установить.
Через минуту после ухода няни Ольга попрощалась с Дмитрием и уже собралась уходить, как дверь в палату открылась и из-за нее высунулась детская стриженая головка. Краснощекий веснушчатый мальчуган кого-то отыскивал взглядом.
— Тебе кого, малыш? — спросил Федя.
— Мы к Шадрину, Дмитрию Егоровичу.
— Ну, заходи, заходи, чего застрял в дверях? — подбадривал мальчика Федя Бабкин.
Вслед за мальчиком в палату нерешительно вошла девочка. В длинных, достающих до пола белых халатах они выглядели смешно. Мальчуган в руках держал пакет. Девочка прижимала к груди конверт, подписанный крупными буквами.
Ольга сразу же узнала вошедших. Это были воспитанники детского дома Ваня и Нина, с которыми она познакомилась десять дней назад, в день операции Шадрина.
Ольга почти подбежала к детям и расцеловала их в холодные румяные щеки.
Дмитрий ничего не понимал. Удивленно переводя взгляд то на малышей, то на Ольгу, он думал, что вышло какое-то недоразумение. Но недоумение его рассеялось после того, как мальчуган положил на тумбочку сверток с гостинцами, а девочка подала ему конверт с надписью: «Д. Е. Шадрину. От третьего звена пионерского отряда детского дома № 12».
Дрожащими пальцами Дмитрий разорвал конверт, на котором старательным детским почерком была выведена его фамилия. В конверте лежало письмо:
«Дорогой Дмитрий Егорович!
Мы, пионеры третьего звена, желаем вам скорейшего выздоровления. Как бывшему фронтовику, обещаем вам хорошо учиться и примерно вести себя.
Посылаем вам:
1) один лимон,
2) две пачки печенья,
3) сто граммов сливочного масла,
4) триста граммов вяземских пряников.
Кушайте лучше и скорее поправляйтесь. Если с вами лежит кто-нибудь из фронтовиков, поделитесь нашей посылкой поровну. Снегурку, что стоит под вашим окном, мы слепили для вас. Когда выпадет еще снег, слепим и деда-мороза.
С приветом — Пионеры третьего звена».
Ниже стояло больше десятка подписей.
На глазах у Дмитрия навернулись слезы. К горлу подкатилось что-то горячее. Не помнил он, когда плакал последний раз, но тут не сдержался. Дмитрий почувствовал, как скатившиеся по щекам слезы нырнули под бинты. Ольга тоже отвернулась к окну. Пионеры в замешательстве стояли и переступали с ноги на ногу. При виде слез Ольги зашмыгала носом и Ниночка. Ваня нахмурил лоб и изо всех сил крепился, чтобы не разреветься.
— Оля, ты видишь из окна снегурку? — спросил Дмитрий.
— Вижу… — стирая с глаз слезы, ответила Ольга. Она смотрела в окно на детдомовский дворик, где с ледяной горки катались дети.
«Я совсем забыла сказать ему про снегурку. А ведь надоумила сама ребят», — подумала Ольга, и ей стало обидно за свое невнимание к детям.
— Помоги мне подняться, я посмотрю на снегурку. Только осторожней, чтоб не видели сестры. — Дмитрий попытался опереться на локти, чтобы хоть чуточку приподняться, но острая боль в груди резанула так, что он тут же рухнул на подушки и, стиснув зубы, подавил стон.
— Что ты делаешь? — испуганно прошептала Ольга, не зная, чем помочь Дмитрию.
Некоторое время Шадрин лежал молча, с закрытыми глазами. Так было легче. На лбу выступили мелкие капли холодного пота, и только потом, когда боль стала утихать, он приоткрыл глаза и, встретившись взглядом с Ваней, вяло улыбнулся.
— Спасибо, ребята!
Время посещения кончилось. В палате остались одни больные. Дмитрий снова перечитал, — на этот раз стараясь запомнить каждую фразу, — письмо пионеров. Захотелось курить.
— Федя, дай папироску.
Бабкин знал, что курить Шадрину врачи запретили строго-настрого. Но при виде его увлажненных глаз он не посмел отказать. Жестом показав на Лучанского (жест этот означал: «Не продаст?»), который лежал лицом к стене, Бабкин украдкой подошел к койке Дмитрия, размял папиросу и подал ее Шадрину. Потом громко раскашлялся, чтобы заглушить шипение зажженной спички.
После нескольких глубоких затяжек Дмитрий почувствовал, как по телу стало расплываться что-то теплое, приятное. Слегка кружилась голова. Но это уже были волны новых сил, приливы жизни.
Сделав еще затяжку, Шадрин посмотрел в окно. Через него в палату врывался сноп яркого зимнего солнца.
На сосульке, висевшей на карнизе железной крыши, по-прежнему золотым слитком горел примерзший кленовый лист.
«Какая красотища! Как чертовски здорово жить!»
Широко разбросав руки, Дмитрий лежал и улыбался. Все, что он видел: стены, солнце, мороз за окном, Лучанский, тетя Варя… — все это была жизнь.
IX
Ольга сидела в приемной профкома университета и мысленно сочиняла предстоящий разговор с председателем, который в течение часа несколько раз зачем-то выходил из кабинета и, не глядя на посетителей, ожидавших его, старался боком, незамеченным, прошмыгнуть мимо.
Через широкое оттаявшее окно был хорошо виден университетский двор. На улице стояла мартовская оттепель. С железных крыш, на которых грязноватыми островками серел крупчатый снег, свисали длинные сосульки. С них равномерно срывались крупные капли. Женщина в белом фартуке, забравшись по пожарной лестнице под самую крышу, одной рукой держалась за перекладину, другой — в ней была зажата метла — старалась сбить длинную тяжелую сосульку.
«Какая смелая! И ведь не боится!» — подумала Ольга, наблюдая за ловкими взмахами руки уже немолодой женщины.
Долго возилась дворничиха с сосулькой, наконец изловчилась и сбила ее. Ольга даже почувствовала внутреннее облегчение, словно не дворничиха, а она сама, неловко изогнувшись, стояла на перекладине лестницы под крышей пятиэтажного дома.
Игравшие неподалеку дети, притаившись, наблюдали за дворничихой. И как только они увидели, что с крыши сорвалась тяжелая сосулька, тут же кинулись со всех ног к месту, куда она должна упасть.
Сосулька с хрустом, в мелкие дребезги, разбилась об асфальт.
Ольга достала из сумочки бумажку от главного врача больницы и еще раз перечитала:
«В профсоюзную организацию Московского государственного университета.
Врачебная контрольная комиссия Н-ской градской больницы для продолжения лечения больного Шадрина, перенесшего тяжелую операцию, считает необходимым направить его в один из санаториев Кисловодского курорта, с чем и обращается в профсоюзную организацию университета, членом которой состоит больной Шадрин.
Главный врач больницы Федоров».
Председателем профкома был белобрысый грузный мужчина, с маленькими голубыми глазками и выцветшими, как мочалки, бровями. Прочитав бумажку, которую Ольга положила перед ним на стол, он зачем-то, вытянув шею, взглянул в окно, почесал затылок и многозначительно помолчал. Потом, словно что-то решая про себя, пробарабанил пальцами по столу и отодвинул бумажку в левую сторону, где она сразу же затерялась в груде точно таких же бумаг.
— Знаем, знаем о Шадрине. Уже и звонили, и приходили из факультетского профкома. Вот тут есть даже отношение деканата и партийной организации. — В кипе документов председатель отыскал нужную бумажку и, беззвучно шевеля губами, прочитал ее, потом поднял на Ольгу свои остренькие, глубоко спрятанные глаза, взгляд которых оставался по-прежнему непроницаем. — Что будет к лету — посмотрим. А сейчас путевок нет. За первый квартал этого года… Да что там первый — за добрую половину второго квартала мы уже исчерпали все возможности.
Перед носом председателя затрещал телефон. Он взял трубку. Слушая его разговор о трех машинах картофеля, который был послан подшефным колхозом в студенческую столовую, Ольга наблюдала за простоватым лицом председателя, и в этой видимой простоте прочитала неприятно хитроватое, мелочное. «Он и форму-то военную носит, наверное, для того, чтобы играть в демократию, мол, фронтовик…» — подумала Ольга, наблюдая, как бесцветные тонкие губы председателя сошлись в озабоченном морщинистом узелке. Что-то скорбно-бабье было в складках его губ.
Председатель положил трубку и, словно не замечая посетительницу, уже собрался уходить из кабинета. Ольга привстала и загородила ему дорогу.
— Товарищ Фоменко, студент Шадрин только что перенес тяжелую операцию. Он инвалид Отечественной войны. У него восемь правительственных наград! Неужели вы не можете ему помочь?
— Вот, смотрите! — Председатель положил широкую ладонь на кипу документов. — Все это заявления с просьбой о предоставлении курортных путевок. Пятьдесят процентов из них — инвалиды Отечественной войны и орденоносцы. Всем им курорт рекомендуют по состоянию здоровья. Но где, где, скажите вы мне, я возьму путевки, если нам отпускают на квартал строгий лимит?! Мы чуть ли не со слезами, а иногда даже с кулаками, добываем каждую лишнюю путевку. А теперь обком союза нам категорически заявил, что до начала второго квартала — ни одной путевки! Даже в дома отдыха. Оставьте заявление — на следующем заседании разберем.