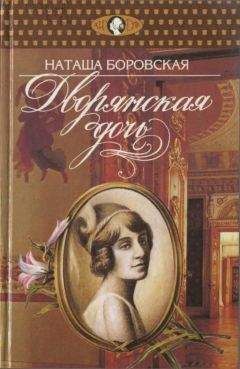Жан Кокто - Ужасные дети
Особняком восхищались; все твердили: "Строгий вкус. Никаких излишеств. Для миллиардера это, право, нечто". А между тем почитатели Нью-Йорка, у которых эта галерея вызвала бы только презрение, даже не подозревали (равно как и Майкл), до чего она американская.
В тысячу раз красноречивее, чем сталь и мрамор, она рассказывала о городе оккультных сект, теософов, о Христианской Науке, Ку-клукс-клане, о завещаниях, назначающим наследницам таинственные искусы, о зловещих клубах, столоверчении и сомнамбулах Эдгара По.
Эта комната свиданий сумасшедшего дома, идеальная обстановка для материализации духов умерших, явившихся издалека сообщить о своей кончине, обличала, кроме того, еврейское пристрастие к соборам, нефам, террасам на сороковом этаже, где в готических часовнях дамы играют на органе и возжигают церковные свечи. Ибо Нью-Йорк потребляет больше свечей, чем Лувр, чем Рим, чем любой причисленный к святым местам город мира.
Галерея, созданная для детских страхов, когда не решаешься пройти по коридору, когда просыпаешься и слушаешь, как потрескивает мебель и как поворачивается дверная ручка.
И эта чудовищная кладовка являла собой слабость Майкла, его улыбку, лучшее, что было в его душе. Она обнаруживала в нем нечто такое, что существовало еще до его встречи с детьми и делало его достойным их. Она свидетельствовала о несправедливости его отлучения от детской, о фатальности его брака и трагедии. Великая тайна становилась тут ясной, как день: не богатством своим, не силой, не красотой заслужил он руку Элизабет, не обаянием. Он заслужил ее своей смертью.
Естественно было и то, что дети стали бы искать свою детскую в любой части особняка, кроме этой галереи. Они бродили между двумя комнатами, как неприкаянные души. Бессонные ночи были уже не легким призраком, исчезающим с первым криком петуха, но призраком беспокойно блуждающим. Обзаведясь, наконец, отдельными комнатами и не желая от этого отступаться, они злобно запирались или с враждебным видом слонялись из одной в другую -- губы поджаты, взгляды, как ножи.
Галерея не то чтобы не задевала их: чем-то она их привораживала. Этот зов немного пугал их, мешал переступить ее порог.
Они заметили одно ее странное свойство, и немаловажное: галерея дрейфовала во всевозможных направлениях, как корабль, удерживаемый только одним якорем.
Находясь в любом другом помещении, невозможно было определить ее местоположение, а оказавшись в ней -- понять, где находишься по отношению к остальным частям дома. Кое-как ориентироваться позволял лишь приглушенный звон посуды, доносящийся из кухни.
Этот звон, эта магия вызывали видение детства, засыпающего на ходу после фуникулера, швейцарских гостиниц, где окно, как с обрыва, открывается на мир, где напротив виден ледник, близко-близко, через улицу, словно дом из цельного алмаза.
Теперь черед Майкла вести их, куда надо, взять в свои руки золотую тростинку, очертить границы и указать место.
Однажды ночью, когда Поль дулся, а Элизабет старалась не давать ему спать, он хлопнул дверью, убежал и спрятался в галерее.
Наблюдательность не была его отличительной чертой. Но то, что носилось в воздухе, он хищно улавливал, регистрировал и вскоре уже использовал в собственной оркестровке.
Едва ступив в эту таинственную анфиладу чередующихся полотен света и тени, едва оказавшись среди декораций этой пустынной залы, он превратился в настороженную кошку, от которой ничто не укроется. Его глаза светились в темноте. Он замирал, петлял, принюхивался, не догадываясь сравнить галерею с кварталом Монтье, ночную тишину со снегопадом, но нутром чуя здесь нечто уже виденное в прошлой жизни.
Он обследовал рабочий кабинет, приволок и установил ширмы, отгородив одно из кресел, устроился в нем, положив ноги на стул; потом -- блаженная невинность -- попытался уйти. Но уходила декорация, покидая героя.
Он страдал. Страдал от уязвленной гордости. Попытка отыграться на двойнике Даржелоса обернулась жалким крахом. Агата господствовала над ним. И вместо того, чтобы понять, что он ее любит, что господствует она над ним своей нежностью, что нужно всего лишь дать себя победить, он петушился, брыкался, боролся с тем, что считал своим демоном, дьявольским роком.
Чтобы перелить содержимое из сосуда в сосуд посредством резиновой трубки, достаточно втянуть в нее первый глоток.
На следующий день Поль обустроился, соорудив себе хижину, как в "Каникулах" мадам де Сепор. В ширмах он оставил дверь. Эта выгородка, открытая сверху и соответствующая сверхъестественному характеру места, заселилась беспорядком. Поль перенес туда гипсовый бюст, сокровище, книги, пустые коробки. Росли горы грязного белья. Большое зеркало открывало неожиданные перспективы. Кресло заменила складная кровать. Кумач увенчал настольную лампу.
Начав с визитов, Элизабет, Агата и Жерар, не в силах жить вдали от этого возбуждающего пейзажа в интерьере, эмигрировали вслед за Полем.
Они снова жили. Разбили лагерь. Вступили во владение лужами тени и лунного света.
По прошествии недели пошли в ход термосы, заменившие собою кафе "Шарль", а из ширм выстроилась одна большая комната, уединенный остров, окруженный линолеумом.
В пору маеты с двумя комнатами Агата и Жерар, чувствуя себя лишними и относя дурное настроение Поля и Элизабет (дурное настроение, лишенное всякого азарта) насчет утраченной атмосферы, стали часто уходить вдвоем. Их глубокая дружба была дружбой двух больных, страдающих одним недугом. Как для Жерара Элизабет, так Поль для Агаты стоял выше всего земного. Оба любили, не жаловались и никогда не осмелились бы высказать свою любовь. Во прахе, запрокинув головы, поклонялись они своим кумирам: Агата -- юноше из снега, Жерар -- деве из стали.
Никогда ни тому, ни другой в голову бы не пришло, что своей горячей преданностью они могли бы заслужить что-нибудь большее, чем простая доброжелательность. Они воспринимали как прекрасное чудо то, что их терпят, трепетали, как бы не огрубить братскую грезу, и деликатно устранялись, когда опасались быть в тягость.
Элизабет все время забывала о своих автомобилях. Шофер напоминал ей. В один из вечеров, когда она вывезла на прогулку Жерара и Агату, Поль, оставшись один в плену своего положения, сделал открытие: он влюблен.
Он вглядывался до головокружения в лжепортрет Агаты, как вдруг это открытие поразило его столбняком. Оно било в глаза. Он был сейчас похож на человека, который разобрал буквы, составляющие монограмму, и уже не может увидеть бессмысленных линий, сплетением которых они сперва казались.
Ширмы, словно уборная актрисы, были увешаны журнальными вырезками с улицы Монмартр. Подобно болотам Китая, где лотосы на заре раскрываются со звуком одного огромного поцелуя, они развернули все вдруг свои лица убийц и кинозвезд. Перед Полем вставал его тип, множась в зеркалах. Он начинался Даржелосом, подтверждался во всякой девушке, выбранной в сумерках, сливал в единый аккорд лица на легких перегородках и достигал окончательной чистоты в Агате. Сколько приготовлений, набросков, поправок, предваряющих любовь! Ему, считавшему себя жертвой совпадения -- сходства между молодой девушкой и школьником -- открылось, сколько раз судьба проверяет свое оружие, как неспешно она прицеливается, пока не найдет сердце.
И тайное пристрастие Поля -- его тяга к определенному типу -- не играло здесь никакой роли, ибо судьба из тысяч девушек сделала подругой Элизабет именно Агату. Значит, если доискиваться первопричины, надо вернуться к самоубийству посредством газа.
Поль восхищенно дивился этому стечению обстоятельств и, без сомнения, не замкнись его вспышка ясновидения на любви, изумление его было бы безгранично. Он разглядел бы тогда, как работает судьба, подражая кропотливому снованию рук кружевницы, держа нас, как та -- подушечку на коленях, и вкалывая булавку за булавкой.
Из этой комнаты, мало способствующей самодисциплине и обретению душевного равновесия, Поль созерцал в мечтах свою любовь и сперва вовсе не включал в это Агату в каком бы то ни было земном смысле. Восторг был сам по себе. Вдруг он увидел в зеркале свое лицо, освобожденное от напряжения, и устыдился угрюмой маски, в которую оно было прежде сведено его глупостью. Он-то хотел воздать болью за боль. А его боль оборачивалась благом. Он воздаст добром за добро, и как можно скорее. А сумеет ли? Он любит; это еще не значит, что ему отвечают или ответят взаимностью.
Бесконечно далекий от мысли, что может внушать почтение, он в самом почтении Агаты готов был видеть проявление антипатии. Мука, вызванная этим предположением, не имела уже ничего общего с глухой мукой, которую он приписывая уязвленной гордости. Она захлестывала его, дергала, требовала ответа. В ней не было ничего от неподвижности: надо было действовать, решать, как надлежит поступить. Заговорить он никогда бы не осмелился. К тому же если говорить, то гае? Каноны обшей религии, ее схизмы чрезвычайно затрудняли какую бы то ни было интригу, а их беспорядочный образ жизни настолько не терпел специально подготовленных слов, произнесенных в специально выбранный момент, что существовал немалый риск не быть принятым всерьез.