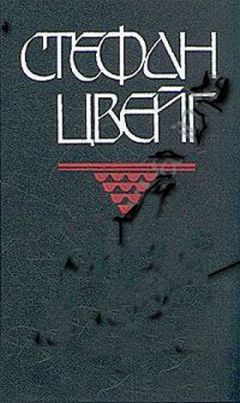Джеймс Джойс - Дублинцы (сборник)
– Слушай, Дедал…
– Ну?
– Интересно, что бы сказал Макналли, если бы встретил своего брата – знаешь этого парня в колледже?
– Знаю…
– На днях я вижу его в Стивенс-Грин с девкой. Мне тут же подумалось, если б Макналли его увидел…
Сплетник сделал паузу, а затем, испугавшись чрезмерных выводов, с видом знатока серьезно добавил:
– Правда, она из себя была… ничего.
Каждый вечер после чая Стивен выходил из дома и направлялся в город вместе с Морисом. Старший курил сигареты, младший сосал лимонные леденцы, и при содействии этих животных благ они коротали долгие прогулки за философской дискуссией. Морис отличался большим вниманием и как-то вечером сообщил Стивену, что он ведет дневник их бесед. Стивен попросил посмотреть дневник, но Морис сказал, что для этого еще хватит времени по окончании первого курса. Оба юноши нисколько не сомневались в себе; они смотрели на жизнь чистыми любопытными глазами (Морис пользовался, естественно, зрением Стивена, когда собственного еще не хватало) и согласно питали такое чувство, что достичь здравого понимания так называемых тайн вполне возможно, если только иметь довольно терпения. В этих ежевечерних странствиях их рассуждения достигали высот, и младший из двух смело оказывал помощь старшему в строительстве целой науки эстетики. Они говорили друг с другом в самом решительном тоне, и Стивен находил Мориса весьма полезным, чтобы выдвигать возражения. У них вошло в привычку, дойдя до ворот Библиотеки, задерживаться за окончанием какой-нибудь нити разговора, и это нередко так затягивалось, что уже не имело смысла, как решал Стивен, заходить и усаживаться за чтение; они обращали лица свои к Клонтарфу и тем же манером отправлялись обратно. Не без известного колебания, Стивен показал Морису первенцев своей поэзии, и Морис спросил, кто же она. Стивен уставил перед собой слегка блуждающий взгляд, прежде чем отвечать, и должен был ответить, в конце концов, что он не знает, кто она.
К сей неизвестной стихи были обращаемы теперь регулярно, и казалось, будто тот дурной сон любви, который Стивен счел нужным увековечить в этих стихах, отныне, в эту пору «сырого сиреневого тумана, доподлинно простерся над миром. Он покинул свою Мадонну,» отказался от своего слова и неумолимо отбросил весь свой мирок, – и конечно уж, не было удивительно, что его изоляция растравляла у него исступленные вспышки юношеской страсти и пароксизмы одиночества? То свойство ума, что проявляется таким образом, называют (в случае неисправимости) декадентством, однако, если мы взглянем на [жизнь] мир шире, мы неизбежно увидим здесь процесс, ведущий через разложение к жизни. Случались моменты, однако, когда такой процесс казался невыносимым, жизнь на любых общепринятых основаниях – невыносимым оскорблением, и в эти моменты он не молил ни о чем и ни на что не жаловался, но сладко угасающим сознанием чувствовал, что если к нему придет конец, он настигнет его в объятиях неизвестной:
Заря встает, тревога гложет грудь.
Как все бело, и голо, и постыло!
Кольцо объятий поспеши сомкнуть!
Волной волос укрыла б!
Жизнь – сон, всего лишь сон. Прочли уже часы,
Пропели антифон.
От солнца лживого, от призрачной красы
Уходим к мертвым в дом.
Мало-помалу появления Стивена в колледже делались все менее регулярными. Каждый день он выходил из дома в обычное время и отправлялся в центр на трамвае. Однако он сходил всегда на станции Эмьенс-стрит и, идя дальше пешком, частенько предпочитал понаблюдать какие-нибудь обычнейшие проявления городской жизни вместо того, чтобы погружаться в гнетущую жизнь колледжа. Так он часто бродил по семь и по восемь часов кряду, не ощущая ни малейшей усталости. Сырая дублинская зима, казалось, гармонировала с его внутренним чувством неготовности, и малейшие женские заигрыванья заставляли его следовать виляющими неведомыми путями нисколько не с большим рвением, чем следовал он по еще менее подходящим путям за проворным движеньем той, что ускользала, а не заигрывала. Что же такое была эта Одна: объятия любви, лишенные губительности любви, смех, разносящийся поутру в горах, час, когда он мог бы повстречать непередаваемое? И если бы только его сердце вздрогнуло хоть на миг в неком предчувствии этого, он бы вскричал со всей юношеской страстью: «Это так! Это так! Жизнь такова, какою мыслится мне». Он презрительно оттолкнул со своей дороги заплесневелые прописи иезуитов и поклялся, что никогда не будет под их господством. Он презрительно оттолкнул со своей дороги и мир более высокой культуры, в котором не было ни учености, ни искусства, ни достойного обхождения, – мир банальных интриг и банальных побед. И прежде всего он презрительно оттолкнул со своей дороги компанию потасканных юнцов – и поклялся, что никогда не даст им втянуть себя в комплот обмана. Чудесные слова! чудесные клятвы! выкрикиваемые смело и страстно наперекор обстоятельствам. Ибо не так уж нечасто, когда экстаз прерывался на время, Дублин внезапною рукой брал его за плечо, и «холод от этого вызова по повестке резко сжимал сердце. Однажды он шел домой через Фэрвью. У развилки дороги на заболоченной полосе берега валялась большая собака. Время от времени она задирала морду в наполненный испарениями воздух и издавала долгий печальный вой.» Люди на тротуарах останавливались, прислушивались. [и] Стивен был среди них, пока не почувствовал первые капли дождя, а потом продолжал свой путь под хмурым надзором небес, слыша время от времени за спиной этот странный плач.
Было естественно, что чем больше стремился юноша к изоляции, тем больше его окружение пыталось помешать ему в этом. Хотя он был всего лишь на первом курсе, его считали личностью, а многие даже думали, что хоть его теории отдают горячкой, смысл-то в них есть. Стивен редко приходил на лекции, ничего не готовил и не появлялся на зачетах, однако не только никто не прохаживался по поводу таких вольностей, но многие допускали, что он, видимо, тип настоящего художника и в духе нравов этого малоизвестного племени занимается самообразованием. Не надо думать, что популярный Ирландский университет был лишен умственного ядра. За пределами сомкнутых рядов поборников национального возрождения тут и там встречались студенты, у которых были свои идеи, и их сотоварищи проявляли к ним относительную терпимость. К примеру, был серьезный молодой феминист по имени Макканн, быстрый в движениях и прямой в речах, носивший бородку и охотничий костюм и бывший верным читателем «Ривью оф ривьюз». Студенты не могли взять в толк, что за идеи влекут его, и считали, что достаточной наградой за оригинальность ему служит кличка «Бриджи». Был также записной оратор – необычайно сговорчивый молодой человек, выступавший на всех собраниях. Крэнли тоже был личностью, а Мэдден вскоре был признан «рупором» патриотической партии. Стивен же, можно сказать, занимал положение вельможи с причудами: весьма немногие слыхивали о писателях, которых он, как передавали, читал, а слышавшие считали их сплошь безумцами. Но вместе с тем его поведение со всеми было столь непреклонным, что его соглашались признать оставшимся в здравом уме и без ущерба преодолевшим все искушения. К нему начали проявлять внимание, зазывать в гости и делать, обращаясь к нему, серьезную мину. Его теории были всего лишь теориями, и, коль скоро за ним покуда не числилось никаких нарушений закона, он был почтительно приглашен сделать доклад в Литературно-историческом обществе колледжа. Дата была назначена на конец марта, и тема была объявлена как «Драма и жизнь». Невзирая на риск убийственной отповеди, многие пытались разговорить молодого оригинала, но Стивен хранил надменное молчание. Однажды, когда он возвращался с вечеринки, репортер одной из дублинских газет, который был в тот вечер представлен юному дарованию, подошел к нему и, обменявшись какими-то репликами, пустил пробный шар:
– Я тут читал этого писателя… как его бишь вы называли… Метерлинка на днях… знаете?
– Да…
– Я читал… По-моему, называлось «Самозванец»… Очень… любопытная пьеса…
Стивен не желал беседовать о Метерлинке с этою личностью, однако ему не хотелось и причинить обиду молчанием, какого равно заслуживали и слова, и тон, и намерение; так что он принялся спешно отыскивать в уме ни к чему не обязывающую банальность, пригодную для уплаты долга взаимности. Наконец он сказал:
– Поставить ее на сцене было бы нелегко.
Журналист был вполне удовлетворен таким ответом, как если бы именно это впечатление и вызвала у него пьеса Метерлинка. Он с убежденностью подтвердил:
– О да!.. почти невозможно…
Когда так задевали самое дорогое сердцу, Стивен чувствовал глубокую рану. Здесь надо сразу и напрямик сказать, что в это время Стивен испытывал определенное влияние, самое прочное в своей жизни. Зрелище мира, которое доставлял ему его разум, со всеми низостями и заблуждениями, рядом с тем зрелищем мира, что доставлял ему сидящий внутри него монстр, достигший сейчас относительно героической стадии, нередко наполняло его существо внезапным отчаянием, смягчить которое удавалось только меланхолическим виршеплетством. Он было совсем уж решил считать оба эти мира чуждыми друг другу – будь сей предельный пессимизм тайным или явным, – но тут, чрез медиума добытых с трудом переводов, он повстречался с духом Генрика Ибсена. Этот дух стал ему понятен «мгновенно.» То же мгновенное понимание явилось у него несколько лет назад, когда он прочел в английской биографии Руссо рассказ, в тоне крайнего замешательства и извинения, о том как юный философ, в ту самую пору, когда он вставал на борьбу за Истину и Свободу, стащил ложки у своей любовницы и допустил, чтобы в краже обвинили служанку. Сейчас было снова как с [извращенным] порочным философом: Ибсен не нуждался ни в адвокатах, ни в критиках: умы старого скандинавского поэта и смятенного юного кельта встретились и совпали в один сияющий миг. Прежде всего Стивена пленила очевиднейшая высота искусства: он был уже недалек от тех дней, когда он стал провозглашать Ибсена – руководясь довольно скудным, конечно, знанием предмета – первым из драматургов мира. В переводах индийских, греческих или китайских драм он видел только его предвестия или предварительные пробы, а в классической французской и романтической английской драме – предвестия более смутные и пробы менее удачные. Однако не одни высота и блеск пленили его, не этому он воздавал ликующую хвалу в радостном порыве духа. За бесстрастною манерой художника чувствовался подлинный дух самого Ибсена: [Ибсен с его глубоким самодовольством, Ибсен с его надменным, утратившим все иллюзии мужеством, Ибсен с его скрупулезной и своевольной энергией.] дух искренней, мальчишеской смелости, гордости, лишенной иллюзий, скрупулезной и своевольной[12]. Пускай мир разгадывает себя каким ему угодно манером, пускай гипотетический его Создатель оправдывает Себя любыми процессами, какие сочтет за благо, но достоинство человека нельзя было утвердить ни на иоту сильней, нежели этим ответом. Здесь, а не в Шекспире и не в Гёте пребывал наследник первого поэта европейцев, здесь, как с тем же успехом лишь у Данте, человеческая личность возымела соединение с художественной манерой, которая сама была почти что естественным явлением; а дух времени готовней сближал с норвежцем, нежели с флорентинцем.