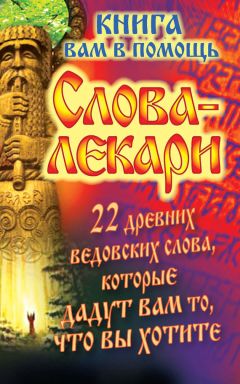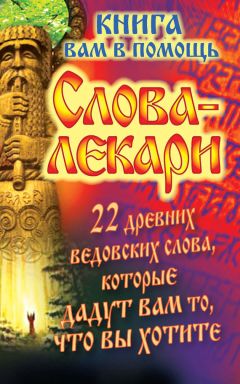Андре Мальро - Надежда
— А Христос?
— Это единственный анархист, который преуспел. А что касается священников, скажу вам одну вещь, которой вы, возможно, не поймете, потому что вы не были бедны. Я ненавижу человека, который хочет простить мне то лучшее, что я сделал в жизни.
Он тяжело, как будто перед ним снова был противник, глянул на полковника.
— Я не хочу, чтобы меня прощали.
На ночной площади кричал громкоговоритель:
«Войска Мадрида еще не определили свою позицию.
В Испании царит порядок.
Правительство контролирует положение.
Генерал Франко только что арестован в Севилье.
Народ Барселоны одержал полную победу над фашистами и мятежными войсками».
Размахивая руками, вошел Негус и крикнул Пучу:
— Солдаты снова выступили из казармы Парка.
Они сооружают баррикаду.
— Salud! — сказал Пуч Хименесу.
— До свидания, — ответил полковник.
Пуч и Негус умчались на реквизированной машине в ночь, освещенную огнями пожаров; повсюду слышалось пение. В районе Караколес ополченцы сбрасывали из окон публичных домов матрацы на грузовики, которые тотчас отправлялись к баррикадам.
Их было теперь множество по всему ночному городу: матрацы, булыжники, мебель… Одна из них, очень причудливая, была сооружена из исповедальных кабин; другая, перед которой лежали убитые лошади, в свете фар показалась нагромождением мертвых лошадиных голов.
Пуч не понимал, для чего фашисты построили свою баррикаду; теперь они сражались одни, солдаты относились к ним с неприязнью. Они отстреливались из-за груды беспорядочно сваленной мебели с торчавшими отовсюду ножками стульев, еле видимой в полумраке: электрические фонари были разбиты выстрелами. Как только бойцы узнали Пуча в его тюрбане, радостные крики наполнили улицу: как во всяком затянувшемся бою, люди начинали испытывать потребность в командире. Вместе с Негусом Пуч вошел в первый попавшийся гараж и взял грузовик.
Длинный проспект был обсажен деревьями, казавшимися синими в ночи. Фашисты стреляли, оставаясь невидимыми. У них был пулемет. У фашистов всегда были пулеметы.
Пуч включил самую большую скорость, нажал изо всех сил на газ, как он проделал это при взятии орудий. Когда шум мотора утих, Негус в промежутке между двумя пулеметными очередями услышал одиночный выстрел и увидел, как Пуч, внезапно выпрямившись, оперся обоими кулаками на руль, словно на стол, и крикнул, как кричит человек, которому пуля выбила зубы.
Зеркальный шкаф баррикады стремительно налетел на фары грузовика, отражавшиеся в нем; под оглушительный треск ручного пулемета Негуса груда мебели распалась, как высаженная дверь.
Бойцы ворвались через образовавшуюся брешь и обходили грузовик, застрявший среди мебели. Фашисты бежали к соседней казарме. Негус, продолжая стрелять, смотрел на Пуча, который в съехавшем на лицо тюрбане, мертвый, упал на руль.
Глава третья
20 июля.
Гвардейцы в треуголках и штурмовики тщетно пытались водворить порядок среди мужчин без пиджаков, а то и без рубашек, среди женщин, которых отгоняли, но которые снова возвращались; толпа, разреженная впереди, а сзади стоявшая необозримой плотной стеной, непрерывно гудела. Какой-то офицер вел солдата, только что бежавшего из казармы Ла-Монтанья. Хайме Альвеар, видя, что они направляются к бару, вошел туда раньше их. Через равные интервалы, словно это билось сердце толпы, грохотала пушка, заглушая ружейные выстрелы, раздававшиеся едва ли не из всех окон и дверей. Крики людей, запах горячих камней и асфальта стояли над Мадридом.
Посетители бара облепили солдата, словно мухи. Он часто дышал.
— Полковник сказал — нужно спасать… республику.
— Республику?
— Да. Потому что она попала в руки большевиков… евреев и анархистов.
— А что ответили солдаты?
— Браво!
— Браво?
— Ну да! Им наплевать. По правде, отвечали больше новички. За последнюю неделю появилось много новых.
— А солдаты из левых? — спросил кто-то.
В неподвижных рюмках коньяк и мансанилья вздрагивали в такт канонаде. Солдат отпил глоток. Он мало-помалу приходил в себя.
— Остались только те, про которых неизвестно, кто они. Остальные вот уже две недели как переметнулись. Ребят из левых у нас оставалось человек пятьдесят, но в тот момент их там не было. Говорят, что их связали и упрятали куда-то.
Мятежников заверили, что правительство не будет вооружать народ, и они ждали выступления мадридских фашистов, которые пока сидели тихо.
Вдруг все замолчали: заработал громкоговоритель. Поскольку газеты выходили лишь раз в день, о судьбе Испании лучше было узнавать по радио.
«Сдача казарм в Барселоне продолжается. Казармы Атарасанас взяты анархо-синдикалистами под предводительством Аскасо[31] и Дуррути. Аскасо убит во время штурма казармы. Крепость Монжуик[32] без боя сдалась народу…»
В баре раздались восторженные крики: даже в Астурии не было столь зловещего названия, как Монжуик.
«…после того, как солдаты отказались выполнять приказы офицеров, узнав из радиосообщений законного правительства Испании, что они освобождены от обязанности подчиняться мятежным офицерам».
— Кто сейчас защищает казарму?
— Офицеры и новобранцы. А ребята разбежались кто куда. Подвалы, поди, переполнены. Когда начала стрелять ваша пушка, мы отказались повиноваться; усекли, в чем дело: ведь у анархистов и большевиков пушек нет. Я сказал ребятам: речуга полковника — еще один фашистский трюк. Стрелять в народ — как бы не так! И я рванул к вам.
Солдат не мог унять нервную дрожь в плечах. Пушка продолжала стрелять, взрывы снарядов эхом отвечали на выстрелы.
Хайме видел орудие. Его обслуживал капитан штурмовой гвардии, не артиллерист; он умел стрелять, но не умел наводить. Тут же суетился скульптор Лопес, командир отряда социалистов, в который входил и Хайме. Расположение орудия не позволяло навести его на ворота казармы, поэтому капитан стрелял по стенам, наугад. Первый снаряд — перелет — взорвался на окраине города, второй — у кирпичной стены, подняв огромное облако желтой пыли. При каждом выстреле незакрепленное орудие сильно откатывалось назад, и бойцы Лопеса, упершись обнаженными до плеч руками в спицы колес, как на гравюрах времен французской революции, кое-как водворяли его на место. Один снаряд все же попал в окно и разорвался внутри казармы.
— Вы там полегче, когда войдете в казарму, — сказал солдат. — Потому что ребята в вас не стреляли.
Нарочно не стреляли.
— А как нам распознать новых?
— Сразу же? Не знаю… Потом можно… Я вам скажу: они все без жен…
Он имел в виду, что фашисты, вступившие в армию, чтобы бороться против народного движения, прятали своих слишком элегантных жен; ближайшие улицы были полны ожидающими солдатскими женами — только их группы и молчали в гудящей толпе.
Ружейная пальба вдруг усилилась, перекрывая громыхание подъезжающих грузовиков: прибыло подкрепление штурмовой гвардии. Один из броневиков был уже тут. Орудийные выстрелы по-прежнему сотрясали вино в стаканах. Бойцы забегали в бар и, не выпуская винтовок из рук, рассказывали новости, как киноактеры на студии забегают в буфет пропустить стаканчик между двумя съемками, не снимая костюмов. Но на светлых плитках, которыми был выложен пол, оставались следы от их окровавленных подошв.
— Еще таран!
Действительно, человек пятьдесят в воротничках и без воротничков, но с ружьями за спиной, согнувшись, как бурлаки, тащили огромное бревно, напоминавшее какого-то монстра геометрической формы. Бревно проплыло над развороченной мостовой, кусками штукатурки и обломками решетки, ударило в ворота, точно в гигантский гонг, и подалось назад. Хотя казарма была полна криков, грохота выстрелов и дыма, она ответила на удар как будто гулом монастырских сводов. Трое из тех, кто тащил бревно, упали под пулями фашистов. Хайме встал на место одного из них. В тот момент, когда таран снова тронулся, высокий анархист с густыми бровями схватился обеими руками за голову, словно хотел заткнуть себе уши, и упал на движущийся таран, свесив руки с одной стороны, а ноги — с другой. Большинство не заметило случившегося, таран продолжал медленно и тяжело двигаться с повисшим на нем человеком. Для двадцатишестилетнего Хайме народный фронт воплощал в себе братство в жизни и смерти. От рабочих организаций он ждал тем больше, чем меньше верил всем, кто веками правил его страной. Он знал главным образом этих безвестных «рядовых членов» — олицетворение испанской самоотверженности. Толкая под палящим солнцем и пулями фашистов огромную балку, несущую к воротам мертвого товарища, он всем сердцем отдавался бою. Таран снова гулко ударил в ворота, мертвое тело закачалось; двое из находившихся рядом — один из них Рамос — сняли его и унесли. Таран медленно отступил. Упали еще пятеро. Там, где прошел таран, между двумя рядами раненых и убитых была пустая дорога.