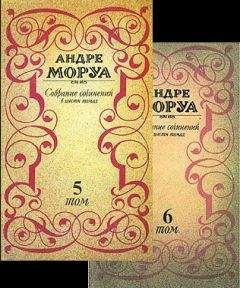Роже Гар - Семья Тибо (Том 1)
А потом из глубины сознания внезапно возникла другая навязчивая мысль, и Рашель поняла, что, спасаясь от этого наваждения, она нарочно так долго цеплялась за свои воспоминания.
Она поднялась.
- Давай пойдем до станции пешком! - предложила она. - Поезд будет только в одиннадцать часов. Кучер отвезет вещи.
- Восемь километров в темноте, по грязи?
- Подумаешь!
- Право, ты сошла с ума!
- Ах, я бы добрела туда, выбившись из сил, - сказала она жалобно, - и мне стало бы легче.
Но больше она не настаивала и пошла вместе с ним к экипажу.
Уже совсем стемнело, и стало прохладно.
Сев в карету, Рашель прикоснулась кончиком зонта к спине кучера и сказала:
- Поезжайте потихоньку, шагом, время у нас есть. - Она прильнула к Антуану, шепча: - Тут так уютно, так хорошо...
А немного погодя Антуан погладил ее по щеке и почувствовал, что вся она мокра от слез.
- Я просто измучилась, - объяснила Рашель, отворачивая лицо. И, прижимаясь к нему еще теснее, тихо сказала: - О, держи меня крепче, котик, не отпускай.
Они сидели молча, прильнув друг к другу. Деревья, дома, озаренные светом фонарей, вдруг появлялись, как призраки, и тотчас исчезали в ночной тьме. Над ними раскинулось необъятное небо. Голова Рашели склонилась к плечу Антуана и покачивалась, когда экипаж встряхивало на ухабах. Время от времени Рашель выпрямлялась, крепко обнимала его и, вздыхая, говорила:
- Как я люблю тебя!
На перроне железнодорожной станции только они и ждали прихода парижского поезда. Они нашли себе убежище под каким-то навесом. Рашель, все такая же неразговорчивая, держала Антуана за руку.
В потемках пробегали железнодорожные служащие, помахивая фонарями, бросавшими отблески на влажную платформу.
- Поезд прямого сообщения! Отойдите от края!
Прогромыхал скорый - черный состав, словно просверленный огнями, промчался ураганом, вздымая все, что могло взлететь, все унося с собой, даже воздух, нужный для дыхания. И сразу же снова водворилась тишина. Но вдруг где-то над ними раздалось тонкое гнусавое дребезжание электрического звонка, возвещавшего о прибытии экспресса. Состав стоял полминуты. Они едва успели взобраться в вагон и, не выбирая места, устроились в купе, где уже спали три пассажира; лампа была завешана синей тканью. Рашель сняла шляпу и тяжело опустилась на единственное свободное место; Антуан сел возле, но она не прислонилась к нему, а уперлась лбом в черное оконное стекло.
В полутемном вагоне ее волосы, - днем, при ярком свете, они бывали оранжевого, чуть ли не розоватого оттенка, - утратили свой редкостный цвет; казалось, они превратились в какую-то расплавленную массу или, пожалуй, в шелковую пряжу с металлическим блеском или в стеклярус, а сверкающая белизна ее щеки придавала всему ее облику что-то бесплотное. Она бессильно опустила руку на вагонную полку; Антуан сжал ее пальцы, и ему показалось, что Рашель дрожит. Он негромко спросил, что с ней. Вместо ответа она лихорадочно пожала ему руку и совсем спрятала от него лицо. Он не понимал, что с ней творится, вспомнил, как сегодня днем она держалась на кладбище. Быть может, ее подавленное состояние сейчас, вечером, и есть следствие сегодняшнего ее паломничества, хотя в общем она все время была чуть ли не в веселом настроении. Он терялся в догадках.
Когда они приехали и их спутники засуетились, сняли с лампы чехол, он заметил, что она упорно не поднимает головы.
Он шел за ней в толпе, не задавая вопросов.
Но как только они сели в такси, он, не выпуская ее рук, спросил:
- Что происходит?
- Ничего.
- Что происходит, Рашель?
- Оставь меня... Видишь сам, все прошло.
- Нет, я тебя не оставлю. Ведь имею же я право... Что происходит?
Она подняла лицо, подурневшее от слез, посмотрела на него взглядом, полным отчаяния, и отчетливо произнесла:
- Не могу тебе об этом сказать. - Но выдержка ей изменила и, уже не владея собой, она бросилась к нему на грудь: - Ах, нет, котик, никогда, никогда у меня не хватит на это сил.
И он сразу понял, что счастье его кончилось, что Рашель его бросит, оставит одного, и что ничего, да, ничего нельзя сделать. Он понял все это еще раньше и без ее слов, сам не зная почему, даже не успев ощутить мучительную тоску, как будто всегда к этому готовился.
Они поднялись по лестнице в квартиру Рашели на Алжирской улице, так больше и не обменявшись ни словом.
Он ненадолго остался в одиночестве в розовой комнате. Стоял ошеломленный, смотрел на постель, видневшуюся в глубине алькова, на туалетный столик, на весь этот уголок, ставший для него домом. Вот она вернулась, уже сняв пальто. Он видел, как она входит, закрывает дверь, приближается к нему, прикрыв глаза золотистыми ресницами, сжав губы, храня тайну.
И он упал духом; шагнув к ней, спросил невнятно:
- Скажи, ведь это неправда?.. Ты не покинешь меня?
Она села, усталым прерывистым голосом попросила его успокоиться, сказала, что ей предстоит долгое путешествие - деловое путешествие в Бельгийское Конго. Затем она пустилась в длинное объяснение. Гирш поместил все ее деньги - наследство от отца - в какое-то маслобойное предприятие, которое до сих пор работало превосходно, приносило хороший доход. Но один из директоров (а их было двое) умер, и она только что узнала, что другой, ставший теперь во главе предприятия, вступил в соглашение с крупными брюссельскими коммерсантами, основавшими в Киншасе, а это в тех же местах, конкурирующий маслобойный завод, и они всеми силами стараются разорить предприятие Рашели. (Ему казалось, что, рассказывая обо всем этом, она обрела уверенность в себе.) Все осложнялось политическими делами. Всех этих Мюллеров поддерживает бельгийское правительство. Живя здесь, вдали от всего, Рашель не может ни на кого положиться. А ведь дело касается ее единственного достояния, ее материального благополучия, всего ее будущего. Она поразмыслила, поискала кое-какие окольные пути. Гирш живет в Египте и порвал всякие связи с Конго. Осталось одно-единственное решение: поехать самой и там на месте или перестроить маслобойный завод, или продать его за подходящую сумму этим самым Мюллерам.
Ее спокойствие подкупило Антуана - он смотрел на нее, побледнев, нахмурив брови, но слушал, не перебивая.
- Все это можно уладить быстро?.. - наконец отважился он спросить.
- Как сказать!
- Ну за какое время, за месяц?.. Больше? За два?.. - Его голос дрогнул: - За три месяца?
- Да, пожалуй.
- А может быть, меньше?..
- Ну, нет. Ведь за месяц только доберешься туда.
- А если нам найти кого-нибудь, послать вместо тебя? Найти верного человека?..
Она пожала плечами.
- Верного человека, говоришь? Послать на месяц без всякого контроля? К конкурентам, которые готовы подкупить любого, сделать своим сообщником!
Это было так разумно, что он не стал настаивать. В действительности же он с первой минуты только об одном и хотел спросить: "Когда?" Со всеми другими вопросами можно было подождать. Он нерешительно потянулся к ней и произнес каким-то смиренным голосом, который так не соответствовал выражению его нахмуренного лица - лица человека действия:
- Лулу... ведь ты не уедешь так, сразу?.. Скажи... Говори же...
- Конечно, не сразу... Но скоро, - созналась она.
Он весь напрягся.
- Когда?
- Когда все будет готово, еще сама не знаю.
Они замолчали, и сила воли чуть не изменила обоим. Антуан видел по измученному лицу Рашели, что она совсем изнемогает, самообладание покидало и его. Он подошел к ней и снова умоляюще спросил:
- Ведь это неправда, скажи?.. Ведь ты... не уедешь?
Она прижала его к груди, обняла, повлекла, ступая неверными шагами, к алькову, и оба как подкошенные упали на постель.
- Молчи. Больше ни о чем не спрашивай, - прошептала она. - Ни слова, больше ни единого слова об этом, не то я сейчас же уеду, даже не предупредив тебя!
И он замолчал, смирился, побежденный; он зарылся лицом в ее разметавшиеся волосы - теперь плакал он.
XIV
Рашель проявила упорство. Весь месяц она уклонялась от вопросов. Встречаясь с Антуаном, подмечая его тревожный взгляд, она отворачивалась. Весь этот месяц был нестерпимо тягостен. Жизнь продолжалась, но каждый поступок, каждая мысль болью отзывались в их исстрадавшихся сердцах.
Сразу после объяснения Антуан призвал на помощь свою деятельную волю, но призвал напрасно и сам был поражен тем, как мучительны его переживания, и ему было стыдно, что он почти не властен над своей тоской. Его охватило тягостное сомнение: да за что это?.. И он тотчас же остерегся: лишь бы никто не заметил. К частью, против воли подчиняясь своему деятельному образу жизни, он, каждое утро идя по больничному двору, словно обретал какой-то талисман и снова мог весь день выполнять свой врачебный долг; когда он был с больными, он думал только о них. Но как только он вспоминал обо всем, скажем, между двумя визитами или за обеденным столом дома (г-н Тибо вернулся из Мезон-Лаффита, и начиная с октября семейная жизнь вошла в колею), безысходная тоска, которая все время подстерегала его, сразу же охватывала его, и он становился рассеянным, чуть что - выходил из себя, как будто вся та внутренняя сила, которой он так гордился, выливалась теперь в одну лишь способность раздражаться.