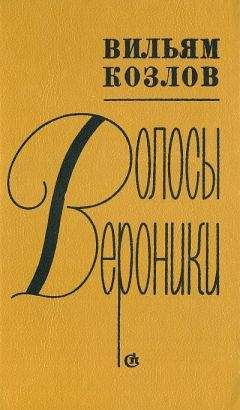Уолдо Фрэнк - Смерть и рождение Дэвида Маркэнда
- Что, выспались?
- Да. - Рука Джейн бессознательно поднялась к оголенной шее, словно кто-то коснулся ее во сне и прикосновение еще чувствовалось.
- Может быть, - сказал Берн, - вы еще станете учительницей.
В первый раз глаза Джейн наполнились слезами; она покачала головой.
- Что с вами?
Оба не замечали Маркэнда.
- Что-то случилось, - сказала она. - Я уже не могу быть учительницей.
- Почему, Джейн?
- Потому что... я теперь не знаю, чему учить.
Берн улыбнулся, словно ее сомнения обрадовали его. Не поднимаясь, он ближе придвинулся к ней.
- Это можно узнать, - сказал он и обнял ее за талию.
Они неподвижно лежали на зеленой земле, в смутном ожидании встречая утро.
3
Они отправлялись в Бэйтсвилл. Берн хотел увидеть город, где работала Джейн Прист; ему нужна была (Маркэнд видел это) близость ко всему, что было Джейн Прист; он хотел стать участником всей жизни, которую она прожила. Улицы Бэйтсвилла, голые ряды каркасных домов лежали в тени Апалачских гор. Бедные белые жители, запертые в городке и приговоренные навечно к каторжному труду, пропитались сухою пылью неприглядных улиц. Дети, рожденные в этой тюрьме, были пришельцами из свободного мира; но они недолго цвели - вскоре их губы сжимались, руки и ноги становились неповоротливыми и глаза тускнели; тогда они не принадлежали больше свободному миру и были готовы для фабрик. В негритянских долинах нищета была окрашена в более яркие краски; черным, казалось Маркэнду, досталась лучшая доля в вечной борьбе, и угрюмые глаза белых знали это.
В этом городе, основанном промышленностью, пустыне, затерянной между холмами и равнинами, Берн, Джейн Прист и Маркэнд решили остаться на лето. Берн быстро нашел себе место кузнеца на литейном заводе (в темных недрах гор было железо, а уголь привозили по местной железной дороге).
- А ты читай, - сказал он Джейн. - Тебе нужно учиться, если хочешь учить других. - И он выписал ей с Севера книг.
- Это не займет у меня всего времени - только читать.
- Тогда бездельничай. Дэвид тебя научит. Уменье бездельничать единственная добродетель людей его класса, не всех, правда. После революции мы немало часов станем каждый день отводить безделью, и это будут самые значительные часы в жизни.
- И прекрасно, - сказал Маркэнд. - У меня есть кое-какие деньги, зачем же мне работать? - (Он написал Реннарду, чтоб тот выслал ему пятьсот долларов.)
Маркэнд ощущал потребность безделья. Он стоял на грани какой-то решительной и полной перемены, и ему было страшно совершать поступки, словно в каждом из них таилась угроза его жизни. Глубоко внутри в нем шла какая-то работа, она была связана с его пребыванием здесь, с Джейн и Берном; она разворачивалась сама по себе и требовала от Маркэнда только одного: не мешать. В то же время он утратил простую способность понимать себя: он не знал, счастлив ли он, как он относится к двум своим спутникам, принимает ли революционное евангелие Берна, которое тот из вечера в вечер любовно развертывал перед Джейн, словно эпическую поэму.
Джейн недолго оставалась праздной, да и Маркэнд тоже. Джейн завела дружбу с женщинами по соседству, и через месяц у нее составилась группа из детей, которые были еще слишком малы, чтобы работать на фабрике. Маркэнд купил плотничьи инструменты и на тенистом дворе каркасного домика, который они сняли, мастерил скамейки, качели, песочницы. Он многому научился в Люси и теперь делился своим опытом с Джейн, помогая ей в работе с детьми. Но вначале она лучше понимала их, чем он; у них была притупленная восприимчивость, соображали они туго, детский дар фантазии и творчества в игре был зарыт в них так глубоко, что Маркэнд не мог до него докопаться. В школьниках Люси и собственных детях он привык встречать более подвижный ум. Обдуманно, не без труда вначале, он заставил себя приспособиться к медленному жизненному ритму этих сынов и дочерей неприглядной улицы. И впечатление их неполноценности скоро исчезло. Он увидел в них племя потаенных мечтателей, и ему стало ясно, что сам он похож на них. Как в горах к северу от Бэйтсвилла, в их сознании были расселины, где таились сокровища. Сколько времени прошло, прежде чем он начал постигать сокровища, скрытые в нем самом! Не боязливые грезы, гнездившиеся в сознании этих детей, были чужды ему теперь, но рационализм Реннарда и рационалистическая религиозность Элен.
Вечерами, перемыв после ужина посуду, все трое сидели во дворе, где днем играли дети, сидели среди еще звучавшей музыки детских голосов, и мужчины курили, а Джейн шила, а над ними (дом стоял на окраине города) по сине-зеленым горам раскидывался пурпурный покров. Наступал час беседы; Джейн задавала вопросы; Берн с терпеливой нежностью снова и снова возвращался к неясному пункту, бережно направляя ее шаги. Порой заходил кто-нибудь из рабочих или женщин - приятельниц Джейн; Берн и тогда не менял характера беседы. И то, что он говорил, было беспристрастным и точным; и то, что он говорил, с настойчивой уверенностью вело их умы к осознанию неизбежности социальной революции.
Все чаще навещали их люди, но они уходили рано. (В отличие от Берна им нужен был длительный сон, перед тем как встать на рассвете, и в отличие от Джейн и Маркэнда они не могли отдыхать в послеобеденный час.) Но друзья еще долго сидели втроем знойной ночью, сначала беседуя, а потом просто молча.
Город был окружен горами; на севере поднималась вершина, одинокая крутая скала, такая каменистая, что на ней не росли даже деревья. И когда вызванные Берном видения смерти последней классовой культуры и рождения культуры человечества возникали перед их взором в ночи, словно дыхание далекого, беспредельного и высшего существа, Маркэнд вспоминал об этой вершине. Прямо перед ним высилась гора, преграждавшая путь к дому, к рождению, к будущему. Гора стояла между ним и его жизнью, он должен был взойти на нее. Он твердо знал, что это всего лишь невысокий отрог Апалачских гор; знал, что по железной дороге, пересекающей вершины, он всего за несколько часов может доехать домой. Но в глубинах его сознания, разбуженных Джейн и детьми фабричного города, жила уверенность еще более твердая, что этой горы не одолеть так быстро. Огромной была гора, осенявшая двор, где он сидел вместе с Берном и Джейн, не потому, что она тянулась от Алабамы до Новой Англии, но потому, что на ее вершине был перевал его судьбы и в ее недрах горел огонь, в котором все, чем был и мечтал быть Дэвид Маркэнд, должно умереть, прежде чем он преодолеет подъем.
- Я верю, Джейн, да, верю в человека, - послышался спокойный голос Берна. - Вот почему я социалист. В жизни нужно... непременно нужно... верить во что-нибудь. _Верить_ - значит то же, что и _жить_. У кого нет веры в человека, тот отрезан от человека, то есть он ставит веру в свое личное благополучие выше человека, вне человека и вне человеческого благополучия. И вот, отделившись, обособившись так от человека, вы, по вашим словам, утверждаете вашу веру в бога. Но на самом деле вы только презрели человеческую жизнь и надежду, чтобы утвердить свою надежду на маленький замкнутый мирок, который вам кажется выше мира людей и который вы называете небом. Потому что, если у вас нет веры в человека, вы, значит, не верите и в себя. Но ведь, чтобы жить, нужно верить! И вот вы придумываете внутри себя нечто, во что можно верить, и называете его сверхчеловеком или богом. Это разрешает ваши затруднения, потому что теперь вам есть во что верить, и вы думаете, что верите в бога, а не в человека. На самом деле это просто _самомнение_: вам кажется, что есть в вас нечто лучшее, чем обыкновенный человек. И это самомнение позволяет вам не задумываться о человеке, не задумываться о самом себе.
Наступило молчание; эти трое не боялись длительного молчания.
- Все совершенно понятно, - продолжал Берн. - Человеческий мир, как он есть, отвратителен. Только глухой, немой или слепой может усомниться в этом. Повсюду мужчины и женщины гнут спину ради куска хлеба (а в мире избыток пшеницы!); повсюду человеческое счастье принесено в жертву ради того, чтоб только выжить (а стоит ли жить, если нет счастья?); повсюду детей лишают детства и обращают в тупые создания, подобные родителям. В Европе война? Но ведь десятки тысяч лет идет война во всем мире, и каждое доброе человеческое побуждение, каждая робкая мечта разбивается вдребезги... и возрождается вновь. В чем же дело? Если бы звери умели говорить - что же, и они говорили бы так о своем мире? Не верьте этому! Звери живут жизнью свободной и полной... и значит, счастливой, или умирают. Счастье до самой смерти: так живут насекомые, растения, животные. А человек? Несчастья до самой смерти. Почему такая разница? Почему эта разница существовала всегда, с первых дней цивилизации? Христиане дают на это свой ответ. Не веря в человека вообще, не веря в человека в себе, они говорят: _первородный грех_. А это значит, что в мире человека нет места надежде и что спастись можно, только уйдя от него и задушив его в себе. Отсюда начинается порочный круг, называемый цивилизацией. Раз человек безнадежен, зачем тревожиться о том, как он живет и что делает? Пускай человек гниет! Так вот: он гнил и продолжает гнить!.. Но у социалистов есть свой ответ на вопрос. - Берн медленно выколотил пепел из своей трубки, медленно набил ее снова, медленно зажег и раскурил. - Социалисты говорят: с тех пор как человек стал бороться за жизнь более высокую, чем животное существование, жизнь, проникнутую человеческим смыслом, он столкнулся с противоречием. Чтобы жить как человек, он нуждался в покое и досуге... чтобы разрешать свои проблемы, создавать свое искусство. Но чтобы иметь покой и досуг для себя, он заставлял других на себя работать: имел _рабов_. Ценой привилегии одних людей жить разумной жизнью было порабощение других. Так вот, цена оказалась чересчур высокой. Потому что нет человека, полностью обособленного от других, нет "свободного" человека, полностью обособленного от своих рабов. Сам того не зная, он страдал их страданием, их болезни разъедали его искусство и мысль... плоды его досуга. Этот "свободный" был подобен человеку, у которого ясный ум, но слабое сердце, а легкие постоянно вдыхают отравленный воздух. Он пытался объяснить и тем уничтожить свое несчастье - отсюда его религия, философия, искусство. Он пробовал все пути, кроме одного: освобождение своих рабов ведь это он мог сделать, лишь отказавшись от своего досуга и своей "свободы". Остроумнейшие объяснения находил он (первородный грех, например). Но роковое противоречие оставалось неразрешенным. Немногие порабощали многих, и это рабство многих заражало болезнью весь общественный организм, включая и тех, кто мнил себя свободным. - Берн положил свою трубку на землю, у ножки стула, осторожно, чтобы не рассыпать пепел. - Только теперь, только теперь, с появлением машины, стало возможным разрешить противоречие, разлагавшее человеческий мир. Мы нашли замену эксплуатируемому классу. Нам не нужны рабы, которые работали бы за нас, чтобы мы имели время думать, и мечтать... и любить. Рабами не будут больше другие люди: _не будем больше мы сами, ибо другие - это мы сами_. Рабом будет машина. И машина будет принадлежать всем нам.