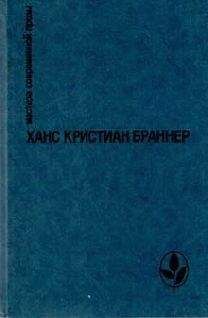Уильям Гасс - Мальчишка Педерсенов
Не похоже, сказал наконец папа. Отсюда не поймешь.
Так кто пойдет? подумал я. Это недалеко. И все кончится. Только двор перейти. Это не дальше, чем переход за сугробом. Оттуда только окна глядят. Если он и был, то ушел, никакой опасности нет.
Он ушел.
Может, и так, Йорге. Но если он приехал на бурой, которую ты нашел, почему не взял кобылу Педерсена?
Господи, прошептал Ханс. Он здесь.
Может, и в хлеву, мы все равно его не увидим.
Ханс икнул. Папа тихо рассмеялся.
Ну тебя к черту, сказал Большой Ханс.
Я думал, избавил тебя от икоты.
Дай посмотрю, сказал я.
Он, наверно, ушел, подумал я. Тут совсем близко. Он, наверно, ушел. Его и не было. Совсем близко - но кто перейдет? Сильно прищурясь, я разглядел дом. С нашей стороны ближе всего - столовая. Веранда была слева, подальше. Дойти до ближней стены, а потом пробираться под окнами. Он может увидеть тебя из окна на веранде. Но он же ушел. Однако мне не хотелось пересекать этот снежный, продуваемый пятачок, чтобы убедиться в этом.
Большой Ханс никак не мог перестать. Я считал в промежутках. Если бы не это, сзади бы меня ничто не беспокоило. Когда он задерживал воздух, наступала долгая тишина, а потом мы ждали.
Возле снеговика поднялся ветер. Теперь возле снеговика лежали длинные голубые тени. На востоке небо было ясное. Снег потихоньку пересыпался к веранде мимо снеговика. С хобота насоса свисала сосулька. Следов нигде не было. Я спросил, видели ли они снеговика; папа буркнул. Снег доставал снеговику до пояса. Ветер выдул ему глаза с лица. Немой дымоход - это пустой дом.
Там никого нет, сказал я.
У Ханса снова началась икота, и я выбежал.
Я добежал до стены столовой и прижался к ней спиной, крепко. Теперь я увидел тучи на западе. Ветер усиливался. Хансу и папе можно было идти. Я проберусь за угол. Я проберусь вдоль стены. Там веранда. Рядом с ней, один, стоял снеговик.
Свободно! крикнул я и двинулся дальше не прячась.
Папа осторожно вышел из хлева с ружьем в руках. Он шел медленно, чтобы быть храбрым, а я стоял на открытом месте, и я улыбнулся.
Папа сел, обняв колени, я услышал ружье, и Ханс закричал. Папино ружье встало торчком. Я попятился к дому. Господи, подумал я, он здесь.
Хочу пить.
Я держал дом. На него несло снег.
Хочу пить. Он показал мне рукой.
Замолчи. Замолчи. Я помотал головой. Замолчи. Замолчи и умри, подумал я.
Хочу пить, пить, сказал папа.
Папа дернулся, когда я еще раз услышал ружье. Он как будто показал на меня рукой. Мои пальцы скользили по доскам. Я пытался зацепиться ими, но спина соскальзывала. Я в отчаянии закрыл глаза. Я знал, что снова услышу ружье, хотя кролики не слышат. Он бесшумно пришел. Спина соскальзывала. В кроликов, однако, трудно попасть, они прыгают. А суслики, вроде папы, сидят. Я чувствовал лицом снежинки; они крошились, когда ударялись. Он застрелит меня, ей-богу. Голова у папы набок? Не смотреть. Я чувствовал, как снежинки мягко падают мне на лицо и ломаются. Снег слепил, стягивал щели глаз. Эта трещина у папы в лице, должно быть, ужасно сухая. Не смотреть, да... ветер усиливался... снежинки быстрее...
2
Когда мне стало так холодно, что стало все равно, я прополз к южной стороне дома, разбил окно пистолетом - о нем я только сейчас вспомнил - и влез в полуподвал, порвав о стекло куртку. Ноги подламывались, я то и дело присаживался в темных углах, в холодных плесневелых закутках между ящиками. И вдруг заснул.
Я думал, что проснулся сразу, однако свет за окном был красным. Их загнали в погреб, вспомнил я. Но, хотя замерз так, что будто отделился от себя, я остался на месте и думал, не идет ли все к тому, чтобы я очутился в погребе взамен мальчишки, которого он упустил. Да, его не ждали. А мальчишка Педерсенов - может, он был вроде как бы вестью. Нет, мне больше нравилась мысль, что нас обменяли, как пленных. Я вернулся в свою страну. Нет, скорее мне дали страну. Новую необитаемую землю. Чем дальше, тем больше, пока мы ехали, я выскальзывал из себя - может быть, меня вытеснял холод. Так или иначе, голова у меня была чудная, с пересохшими глазами, затуманенная, вс° разорванное. Да, он был быстрый и бесшумный. Кролик просто споткнулся. Помидоры ничего не чувствуют замерзая. Я подумал о мягкости туннеля, следах лопаты на снегу. А что, если снег глубиной в тридцать метров. Вниз, вниз. Бело-синяя пещера, синева темнеет. И отсюда отходят туннели, как ветви дерева. И красивые залы. Это уже февраль? Я вспомнил кино, где листы слетали с календаря, как листья. Девушки в красном кружевном белье уносились на лыжах из виду. Тишина туннеля. Глубже и глубже. Лестница. Широкая, высокая лестница. И балконы. Ледяные окна и мягкий зеленый свет. Ах. В феврале еще будет снег. Вот я съезжаю с хлева, шуршат полозья. Я опасно кренюсь, но все равно качусь дальше. Теперь в желоб, быстрый снежный желоб, и мальчишка Педерсенов плывет грудью вниз. Теперь они все утонули в снегу, так ведь? Мальчишка - за то, что убил свою семью. А я? Должен замерзнуть. Но я уйду до этого, вот что хорошо, я уже ухожу. Да. Чудно. Я стал чем-то, что надо ощупать, найти больные места, как ржавчину и гниль в шурупах и досках, перетертые места в ремнях, и до этих мест было трудно достать, пальцы в перчатках не гнулись, концы их болели. Из носу текло. Как интересно. Странно. В ноге судорога, она меня, наверно, и разбудила. Как чужие я ощущал свои плечи в куртке, обод шапки на лбу, а на жестком полу еще более жесткие - свои ступни и крепко прижатые к груди колени. Я ощущал их, но ощущал иначе, чем всегда, - как распор болта в стали, как тягу кожаного гужа, как натиск половицы на половицу в сплоченном полу, как тугой поворот плотно пригнанной пары колес, стесненность разбухших брусьев и глубоких зимних ключей.
Я не видел топку, но огня не было. Я знал, угли в ней остыли. В разбитом окне застряла радуга и бросила на пол цветные пятна. Один раз сквозь нее пробежал ветер, и снежинка повернулась. Лестница уходила в темноту. Если на ней появится щелка света, подумал я, придется стрелять. Я нашарил пистолет. Потом я увидел погреб, закрытую дверь, за которой Педерсены.
Умерли они уже? Должны были. Все умерли, кроме меня. Более или менее. Большой Ханс, конечно, не совсем - если только этот не догнал его, воющего. Но Большой Ханс бежал как трус. Это ясно. Может, даже лучше, что он жив и пропадет в снегу. У меня не было его журналов, но я помнил, как они выглядят, надутые в лифчиках.
Дверь была деревянная, с деревянным засовом. Засов я отодвинул легко, но дверь застряла. Не должна была застрять, но застряла - заело сверху. Я попробовал разглядеть верх, встав на цыпочки, но пальцы на ногах не выгибались, и я валился на сторону. Не с чего ей застревать, подумал я. Нет никакой причины. Я снова дернул, очень сильно. Упала деревяшка, и дверь, задрожав, открылась. Подклинена. Зачем? Есть же засов. В погребе было еще темнее и пахло землей и плесенью.
Может, они свернулись клубком, как мальчишка, когда он упал. Может, у них иней на одежде и волосы схватило льдом. Какого цвета у них носы? Хватит мне смелости дернуть? Если хозяйка мертвая, посмотрю у ней между ног. Я не Ханс, чтобы их растирать. Большой Ханс убежал. Пропал в снегу. Здесь ни чайника, ни печки. Перед тем как такое устроить, надо вс° рассчитать. Я подумал о том, как затвердели губки в ведре.
Я ушел за ящики, спрятался и стал следить за лестницей. В пятне света деревяшка была оранжевой. Он слышал меня, когда я разбил стекло, и когда выдернул дверь, и когда упал клин. Он ждал за дверью наверху, над лестницей. Чтобы я туда поднялся. Он ждал. Все это время. Ждал, пока мы стояли в хлеву. Ждал, когда выйдет папа с ружьем наперевес. Он не рисковал, ждал.
Я понимал, что ждать не могу. Я понимал, что надо выбираться обратно. Там он тоже будет ждать. Я медленно сяду в снег, как папа. Это будет обидно, особенно обидно после всего, что я пережил и теперь был на пороге чего-то чудесного - я чувствовал, как оно уже странно трепещет во мне, в той части меня, которая воспарила и спокойно смотрела с высоты на залубеневшую кучку моей одежды. Да, вот что папа забыл. Мы могли воспользоваться лопатой. И с ней я бы нашел бутылку. С ней мы бы поехали домой. У печки я пришел бы в себя, я бы отогрелся. Но когда я думал об этом, меня это уже не привлекало. Я больше не хотел прийти в себя таким способом. Нет. Я был рад, что он забыл про лопату. Но он... он ждал. Папа всегда говорил, что умеет ждать; что Педерсен не умел. Но мы с папой не сумели - только Ханс остался, когда мы вышли, а тот, кто по-настоящему умеет ждать, ждет. Он знает, что я не смогу ждать. Он знает, что я замерзаю.
Может быть, Педерсены просто спят. Надо убедиться, что старик не подглядывает. Такое дело. Папа притворялся спящим. Мог и мертвым притвориться? Она не очень-то интересная. Толстая. Седая. Но между ног у всех одинаково. Свет в окне слабел. Видневшийся там кусок неба был дымчатым. Осколки стекла отблестели. Я услышал ветер. Снег за окном поднимался. С балки свисала паутина, неподвижно, как проволочная сетка. Снежинки влетали одна за другой и исчезали. Я торопливо считал: три... одиннадцать... двадцать пять. Одна опустилась около меня. Может быть, Педерсены вправду спят. Я снова подошел к двери и заглянул. На банках лежали слабые полосы света. Я попробовал пол ногой. Вдруг подумал о змеях. Я двинул ногу вперед. Обошел все углы, но по полу никто не ползал. Все-таки облегчение. Я вернулся и спрятался за ящиками. Ветер усиливался, нес снег, стекло поблескивало в неожиданных местах. Мертвые шляпки кровельных гвоздей в открытом бочонке белели матово. Господи боже. Наверху в доме громко хлопнула дверь. Он перестал выжидать.