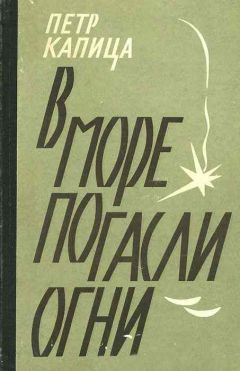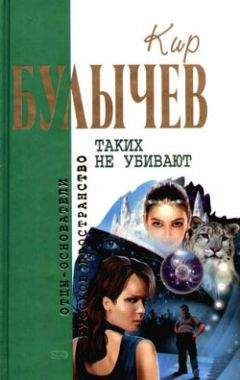Мария Романушко - Наши зимы и лета, вёсны и осени
Мы с бабушкой торжественно опустили луковицу в мягкий, тёплый чернозем. Хорошенько полили, посмотрели на зелёные перышки, весело торчавшие из земли, и бабушка удовлетворенно сказала: «Теперь у нас будет свой зелёный лук».
Она ушла в дом, а я осталась играть во дворе. Вскоре, пробегая мимо свалки строительного мусора, я увидела на ней… нашу луковицу! Большую, золотистую, с зелёными перышками на макушке, выпачканную землей. Ту самую, которую мы только что посадили… Я схватила её и побежала к палисаднику. Обида за бабушку жгла меня. Я воткнула луковицу обратно в землю и уселась на ступени лестницы на страже. Но вскоре бабушка позвала меня обедать.
После обеда, выбежав во двор, я не нашла луковицы ни в палисаднике, ни на свалке… Неопознанный враг оказался сильнее. Впервые в жизни я ощутила такую беспомощность, такое полное бессилие. Я ходила по двору, заглядывая в лица детей и взрослых: кто? кто?! Но подружки заговаривали со мной, как ни в чем не бывало, а лица взрослых были обычными. Они были – как всегда! Ни на одном из них я не увидела печати злодейства, никого из обитателей двора не в силах была заподозрить. И тогда мне смутно почудилось, что здесь действует не человек, а какая-то сила, имени которой я не знала. Зло – неопознанное, безликое, безымянное – клубилось в воздухе весеннего двора, лишая его свежести, а окружающий мир – солнечной яркости: краски мутнели и гасли. Внутри у меня ныло, жгло, болело… Бедная бабушка, она так радовалась…
Никогда ещё, ни разу за свои неполные пять лет, я не испытывала такой боли. Я знала, как может болеть горло или уколотый иглой палец, но я не подозревала, что так жгуче может болеть внутри… До этой минуты я не знала, что может быть так больно. До этого дня я не знала, как я люблю бабушку.
«Что с тобой, деточка?» – испуганно спрашивает бабушка, когда я, вбежав дом, с рыданиями падаю ей на колени. И уже не я её, а она утешает меня, гладит по голове доброй рукой. «Не плачь, – говорит она. – Что ж поделаешь?…» И нет в её голосе ни гнева, ни осуждения, а только усталость и печаль…
* * *
«Что ж поделаешь?…» До сих пор слышится мне бабушкин вопрос, обращенный непонятно к кому. «Что ж поделаешь?…»
Наверное, тогда, после истории с луковицей, я осознала ещё одно горькое обстоятельство: наша семья – не такая, как все остальные семьи нашего двора. Как ни странно может показаться это теперь, но в послевоенном дворе только в нашей семье не было мужчины. У меня не было ни отца, ни деда, ни брата. Я переживала это как свою ущербность. Хотя что за радость от такого отца, как дядька Сашка или дядька Захар? Но у меня не было никакого. Поэтому (теперь я знала, что поэтому!) мне доставалось больше, чем кому бы то ни было во дворе, щелчков и затрещин. Поэтому соседки могли обидеть бабушку. Поэтому могли кричать на маму. Да, да, всё поэтому! За нас некому заступиться. Нас кто угодно может обидеть.
Там, на Философской, я впервые пережила досаду на то, что родилась девочкой. Эта досада, родившись от мук бессилия, сопровождала меня потом всё детство, отрочество и даже юность. Это она заставляла меня прыгать с балкона, стричься под мальчишку, крутить на качелях «мертвую петлю», предводительствовать в мальчишеских играх… Всеми силами, всеми доступными мне способами я искореняла в себе женское, такое ненавистное мне, такое унижающее меня. Я воспитывала в себе мужчину.
Пройдет много, очень много времени, прежде чем я скажу однажды: «Какое счастье, что я родилась женщиной». А тот, к кому будут обращены мои слова, скажет в ответ: «Не знаю, что бы я делал, если бы ты родилась мальчиком. Я всю жизнь был бы одинок».
* * *
Лучшие минуты моего детства.
Вечер. Зима. Темная кухня. Из-за одной двери – звуки патефона, из-за другой – стрекот бабушкиной машинки. Печка уже не обдаёт жаром, она дышит добрым, спокойным теплом. Она запасла тепла до утра.
Я буду ощущать её тепло ночью, просунув ноги сквозь прутья кровати и уперев их в тёплую, ласковую грубу – стену, к которой прижимается ласковым, тёплым боком печка.
А сейчас я сижу на низкой скамеечке и смотрю на огненные звёзды, которые сыплются в поддувало и медленно, нехотя гаснут в тёмной золе… Смотрю на гаснущие звёзды и мечтаю… А все мечты в детстве начинались с одного и того же – несбыточного, воистину сказочного «если бы»: «Если бы у меня был папа…»
* * *
Если бы у меня был папа…
На самом деле он был. Но жил далеко – в другом городе. Я его видела всего один раз…
Первое воспоминание об отце. Человек в белом, грустный, красивый, отрешенно смотрит в тёмное окно… Я дома одна. Уже давно он стоит молча у окна и ждёт маму. Высокий, красивый, очень похожий на сказочного принца. Не помню, что он сказал мне, когда вошёл в дом. Но, наверное, всё же что-то сказал, а иначе откуда я узнала, что этот незнакомый мужчина – мой отец? Не помню ни поцелуев, ни радостных объятий, без которых я не представляла себе встречу с отцом. Не помню, о чём он говорил со мной. Помню лишь долгое молчание. И его грустный, отрешенный взгляд, обращенный не на меня, так долго ждавшую его, а в вечернее окно, которое медленно наливалось летним сумраком, пока не стало вовсе чёрным, отразив в своей глубине человека в белом…
Он стоял, погружённый в свои взрослые невесёлые думы, а я – с ненасытной жадностью вбирала в себя его образ.
Он ушёл, так и не дождавшись ни мамы, ни бабушки. Ушёл, ничего не сказав мне на прощанье (или я не запомнила его слов?), но поселив в моём сердце страстную мечту о нём – таком прекрасном, и таком далёком…
Теперь я жила со своей тоской, которая для окружающих, даже самых близких, оставалась тайной. Со своей болью, о которой никто не должен был догадаться. По утрам, просыпаясь, тихо-тихо я шептала: «Доброе утро, папочка!», а по вечерам, укладываясь в постель, так же шепотом желала ему доброй ночи. Страстная, всё разгорающаяся мечта о нём – таком прекрасном и таком далёком – утешала меня в моих детских горестях. Когда мальчишки во дворе колотили меня, я утешалась мыслью: «Если бы у меня был папа…» – никто не посмел бы тронуть меня. Когда я видела на улице мужчину, несущего на плечах маленькую девочку, обхватившую его за шею, – острая, разрывающая сердце зависть обжигала меня. «Если бы у меня был папа!…» Его образ веял надо мной, вокруг меня, согревая меня надеждой на то, что когда-нибудь так и будет: он войдет в наш двор – высокий, красивый, с тёмными, откинутыми с высокого лба волосами, в белом полотняном костюме, в белых, начищенных мелом туфлях, красивый, как принц, подхватит меня на руки, посадит к себе на плечи, и я крепко-крепко обхвачу его за шею…
С тех пор прошло тридцать лет. Но и сейчас, когда я вижу, как отцы несут на плечах маленьких дочерей, – острая, мучительная зависть обжигает мне сердце…
* * *
Булыжная мостовая, старые акации и шелковицы, парфюмерный магазинчик на углу Философской и Бобрового переулка, из него выпархивали легкие цветочные ароматы, которые тут же смешивались, поглощались густыми, стойкими запахами Озерки…
Сырой, темноватый Бобровый переулок, он соединял Философскую с улицей Шмидта. По Шмидта, с горы, неслись с грохотом и звоном красные трамваи… На улице Шмидта, рядом с входом в парк Чкалова, был цирк.
Старый, облупившийся кое-где желтоватый фасад. Яркие, зазывные афиши. Цирк!… Резкий, будоражащий запах опилок и лошадей… Этот запах уже тогда, в пору раннего детства, говорил мне так много! Это был запах-предвкушение, запах-предчувствие… Предчувствие удивительной, прекрасной, настоящей жизни. Жизни, полной риска и счастья!…
Замысловатое, магическое переплетение веревочных лестниц и канатов под куполом – оно завораживало… Сверкание трапеций, при взгляде на которые сладко познабливало. Волшебный марш Дунаевского… От этого марша, праздничного и волнующе призывного, я чувствовала себя счастливой и несчастной одновременно. Всё во мне отзывалось на эти звуки, рвалось куда-то… Как если бы пела и звала сама судьба.
Больше всего завидовала даже не артистам, нет! Униформистам в тёмно-красных, с золотом, униформах, – вот кому я завидовала! Они могли каждый день смотреть представление, могли каждый день дышать этим пьянящим воздухом, слушать эту волшебную музыку… Они были обыкновенными людьми, как я. Я видела, как они суетятся, приносят, уносят, подают… В том, что они делали, для меня не было ничего сверхъестественного, но тем не менее они жили в этом сказочном, недоступном для меня мире. Многое бы я отдала за то, чтобы мне позволили хотя бы раз подмести красный ковер манежа…
Дома, на кухне, шумели примусы, бранилась соседка, стучала бабушкина машинка, – но сквозь эту привычную музыку будней мне явственно слышались призывные звуки марша Дунаевского…