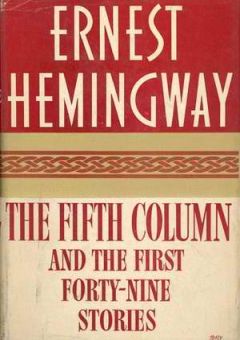Эрнест Хемингуэй - В чужой стране

Обзор книги Эрнест Хемингуэй - В чужой стране
Хемингуэй Эрнест
В чужой стране
Эрнест Хемингуэй
В чужой стране
Осенью война все еще продолжалась, но для нас она была кончена. В Милане осенью было холодно и темнело очень рано. Зажигали электрические фонари, и было приятно бродить по улицам, разглядывая витрины. Снаружи у магазинов висело много дичи, мех лисиц порошило снегом, и ветер раздувал лисьи хвосты. Мерзлые выпотрошенные оленьи туши тяжело свисали до земли, а мелкие птицы качались на ветру, и ветер трепал их перья. Была холодная осень, и с гор дул ветер.
Все мы каждый день бывали в госпитале. К госпиталю можно было пройти через город разными путями. Две дороги вели вдоль каналов, но это было очень далеко. Попасть в госпиталь можно было только по какому-нибудь мосту через канал. Мостов было три. На одном из них женщина продавала каштаны. Около жаровни было тепло, и каштаны в кармане долго оставались теплыми. Здание госпиталя было старинное и очень красивое, и мы входили в одни ворота и, перейдя через двор, выходили в другие, с противоположной стороны. Во дворе мы почти всегда встречали похоронную процессию. За старым зданием стояли новые кирпичные корпуса, и там мы встречались каждый день, и были очень вежливы друг с другом, расспрашивали о здоровье, и садились в аппараты, на которые возлагались такие надежды.
К аппарату, в котором я сидел, подошел врач и спросил:
- Чем вы увлекались до войны? Занимались спортом?
- Да, играл в футбол, - ответил я.
- Прекрасно, - сказал он, - вы и будете играть в футбол лучше прежнего.
Колено у меня не сгибалось, нога высохла от колена до щиколотки, и аппарат должен был согнуть колено и заставить его двигаться, как при езде на велосипеде. Но оно все еще не сгибалось, и аппарат каждый раз стопорил, когда дело доходило до сгибания. Врач сказал:
- Все это пройдет. Вам повезло, молодой человек. Скоро вы опять будете первоклассным футболистом.
В соседнем аппарате сидел майор, у которого была маленькая, как у ребенка, рука. Он подмигнул мне, когда врач стал осматривать его руку, помещенную между двумя ремнями, которые двигались вверх и вниз и ударяли по неподвижным пальцам, и спросил:
- А я тоже буду играть в футбол, доктор?
Майор был знаменитым фехтовальщиком, а до войны самым лучшим фехтовальщиком Италии.
Врач пошел в свой кабинет и принес снимок высохшей руки, которая до лечения была такая же маленькая, как у майора, а потом немного увеличилась. Майор взял здоровой рукой снимок и посмотрел на него очень внимательно.
- Ранение? - спросил он.
- Несчастный случай на заводе, - сказал врач.
- Весьма любопытно, весьма любопытно, - сказал майор и вернул снимок врачу.
- Убедились теперь?
- Нет, - сказал майор.
Было трое пациентов одного со мною возраста, которые приходили каждый день. Все трое были миланцы; один из них собирался стать адвокатом, другой - художником, а третий хотел быть военным. И после лечебных процедур мы иногда шли вместе в кафе "Кова", рядом с театром "Ла Скала". И потому, что нас было четверо, мы шли кратчайшим путем через рабочий квартал. Нас ненавидели за то, что мы офицеры, и часто, когда мы проходили мимо, нам кричали из кабачков: "Abasso gli ufficiali!" [Долой офицеров! (итал.)]. У пятого, который иногда возвращался из госпиталя вместе с нами, лицо было завязано черным шелковым платком; у него не было носа, и лицо ему должны были исправить. Он пошел на фронт из Военной академии и был ранен через час после того, как попал на линию огня. Лицо ему потом исправили, но он происходил из старинного рода, и носу его так и не смогли придать должную форму. Он уехал в Южную Америку и служил там в банке. Но это было позже, а тогда никто из нас не знал, как сложится жизнь. Мы знали только, что война все еще продолжается, но что для нас она кончена.
У всех нас были одинаковые ордена, кроме юноши с черной шелковой повязкой на лице, а он слишком мало времени пробыл на фронте, чтобы получить орден. Высокий юноша с очень бледным лицом, который готовился в адвокаты, был лейтенантом полка Ардитти и имел три таких ордена, каких у нас было по одному. Он долго пробыл лицом к лицу со смертью и держался особняком. Каждый из нас держался особняком, и нас ничто не связывало, кроме ежедневных встреч в госпитале. И все-таки, когда мы шли в кафе "Кова" через самую опасную часть города, шли в темноте, а из кабачков лился свет и слышалось громкое пение, и когда пересекали улицы, где люди толпились на тротуарах, и нам приходилось расталкивать их, чтобы пройти, мы чувствовали, что нас связывает то, что мы пережили и чего они, эти люди, которые ненавидят нас, не могут понять.
Все было понятно в кафе "Кова", где было тепло и нарядно и не слишком светло, где по вечерам было шумно и накурено, и всегда были девушки за столиками, и иллюстрированные журналы, висевшие по стенам на крючках. Посетительницы кафе "Кова" были большие патриотки. По-моему, в то время самыми большими патриотками в Италии были посетительницы кафе, да они, должно быть, еще и теперь патриотки.
Вначале мои спутники вежливо интересовались моим орденом и спрашивали, за что я его получил. Я показал им грамоты, где были написаны пышные фразы и всякие "fratellanza" и "abnegazione" ["братство" и "самоотверженность" (итал.)], но где на самом деле, если откинуть эпитеты, говорилось, что мне дали орден за то, что я американец. После этого их отношение ко мне несколько изменилось, хотя я и считался другом по сравнению с посторонними. Я был их другом, но меня перестали считать своим с тех пор, как прочли грамоты. У них все было иначе, и получили они свои ордена совсем за другое. Правда, я был ранен, но все мы хорошо знали, что рана в конце концов дело случая. Но все-таки я не стыдился своих отличий и иногда, после нескольких коктейлей, воображал, что сделал все то, за что и они получили свои ордена. Но, возвращаясь поздно ночью под холодным ветром вдоль пустынных улиц, мимо запертых магазинов, стараясь держаться ближе к фонарям, я знал, что мне никогда бы этого не сделать, и очень боялся умереть, и часто по ночам, лежа в постели, боялся умереть, и думал о том, что со мной будет, когда я снова попаду на фронт.
Трое с орденами были похожи на охотничьих соколов; я соколом не был, хотя тем, кто никогда не охотился, я мог бы показаться соколом; но они трое - отлично это понимали, и мы постепенно разошлись. С юношей, который был ранен в первый же день на фронте, мы остались друзьями, потому что теперь он уже не мог узнать, что из него вышло бы; поэтому его тоже не считали своим, и он нравился мне тем, что из него тоже, может быть, не вышло бы сокола.
Майор, который раньше был знаменитым фехтовальщиком, не верил в геройство и, пока мы сидели в аппаратах, занимался тем, что поправлял мои грамматические ошибки. Он как-то похвалил мой итальянский язык, и мы с ним подолгу разговаривали по-итальянски. Я сказал, что итальянский язык кажется мне слишком легким для того, чтобы серьезно им заинтересоваться. Все кажется в нем так легко. "О да, - сказал майор. - Но почему же вы не обращаете внимания на грамматику?" И мы обратили внимание на грамматику, и скоро итальянский язык оказался таким трудным, что я боялся слово сказать, пока правила грамматики не улягутся у меня в голове.
Майор ходил в госпиталь очень аккуратно. Кажется, он не пропустил ни одного дня, хотя, конечно, не верил в аппарат, и как-то раз майор сказал, что все это чепуха. Аппараты тогда были новостью, и испытать их должны были на нас. "Идиотская выдумка, - сказал майор. - Бредни, и больше ничего". В тот день я не приготовил урока, и майор сказал, что я просто позор для рода человеческого, а сам он дурак, что возится со мной. Майор был небольшого роста. Он сидел выпрямившись в кресле, его правая рука была в аппарате, и он смотрел прямо перед собой в стену, а ремни, в которых находились его пальцы, с глухим стуком двигались вверх и вниз.
- Что вы будете делать, когда кончится война, если она вообще кончится? - спросил он. - Только не забывайте о грамматике.
- Я вернусь в Америку.
- Вы женаты?
- Нет, но надеюсь жениться.
- Ну и глупо, - сказал майор. Казалось, он был очень рассержен. Человек не должен жениться.
- Почему, signer maggiore?
- Не называйте меня "signer maggiore".
- Но почему человек не должен жениться?
- Нельзя ему жениться, нельзя! - сказал он сердито. - Если уж человеку суждено все терять, он не должен еще и это ставить на карту. Он должен найти то, чего нельзя потерять.
Майор говорил раздраженно и озлобленно и смотрел в одну точку прямо перед собой.
- Но почему же он непременно должен потерять?
- Потеряет, - сказал майор. Он смотрел в стену. Потом посмотрел на аппарат, выдернул свою высохшую руку из ремней и с силой ударил ею по ноге. "Потеряет, - закричал он. - Не спорьте со мною!" Потом он позвал санитара: "Остановите эту проклятую штуку".
Он пошел в другую комнату, где лечили светом и массажем. Я слышал, как он попросил у врача разрешения позвонить по телефону и закрыл за собою дверь. Когда он опять вошел в комнату, я сидел уже в другом аппарате. На нем были плащ и кепи. Он подошел ко мне и положил мне руку на плечо.
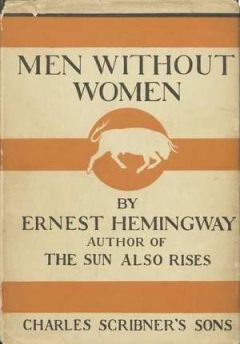
![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](/uploads/posts/books/116183/116183.jpg)