Элигий Ставский - Домой ▪ Все только начинается ▪ Дорога вся белая
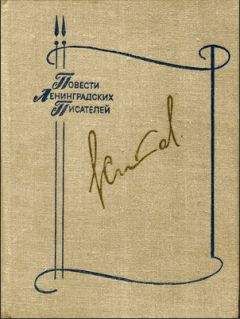
Обзор книги Элигий Ставский - Домой ▪ Все только начинается ▪ Дорога вся белая
Элигий Ставский
Домой ▪ Все только начинается ▪ Дорога вся белая
Домой
Начало этой истории вспоминаешь с улыбкой. Но тогда смешно не было, потому что в маленькой комнате, казенной и прокуренной, где только серые стены и еще портреты, и как-то сразу же неуютно и холодновато от этой пустоты, на стол пришлось выложить «вещественные доказательства». И были они, если учесть, что рядом граница, не столь уж безобидными: финский нож, крепкий, отличный, вделанный в оленью ножку, шершавую и теплую на ощупь, такой нож, который щелкает, когда его открывают, несколько порошков сульфидина - очень модного в то время лекарства, — восемьсот рублей денег и совершенно уникальный ключ от железнодорожных вагонов, маленький, универсальный, величиной с железный уголок портфеля. Мы выменяли этот ключ в Киеве, на вокзале, у какого-то нищего, пьяного и заикающегося, за пачку папирос. А зачем он нам нужен был, этот ключ, мы не знали сами. Я говорю «мы», потому что в этой истории я был не один.
Нет, я не нарушил границы, я даже не собирался этого делать. И тут совсем незачем говорить, что мне нравятся сухие и пропитанные солнцем леса под Житомиром, где я вырос и где можно было ползать на коленях, собирая в кружку ягоды земляники, и столько их - вертишься на месте, а вокруг все красное, глаза разбегаются, невольно смотришь вперед, а у себя под носом не видишь... Мне дороги поля под Курском, ровные, теплые, покрытые серо-голубым небом и звенящие оттого, что ветер колышет колосья и, точно заколдованные, подобно «раскидаям», прыгают вверх-вниз, вверх-вниз беспечные жаворонки, — я ощущал тепло этих полей своими пятками... и лучшая из рек для меня - Нева, даже если она осенняя и вот такая тяжелая, неповоротливая и до удивления безжалостная, как сейчас, когда я смотрю на нее по утрам и думаю, какой черт вылил в реку мазут, испортил воду...
Был сорок пятый год, весь сияющий, полный надежд и довольно голодноватый. И вся эта очень простая история всего-навсего о муке. О той самой, из которой пекут хлеб.
Были первые месяцы мира. Возвращались домой солдаты. Улицы становились многолюдными, на Кировском мосту по вечерам зажигались фонари, и теперь едва ли можно рассказать, сколько в этих желтых огнях было поэзии, красоты и радости. В нас кипела молодость, мы просыпались и засыпали с улыбкой, у нас было желание обнять всю Землю, и мы решили... увидеть, каков же он - мир.
И я сказал Вильке:
- А потом вернемся. А потом вернемся, Виля. Ну?
Но он не поверил, он посмотрел на меня очень внимательно, а я был готов к этому. Я выдержал его взгляд. А сам знал, что, может быть, не вернусь. Сам уже знал об этом. Вот что творилось в моей голове.
Он усмехнулся:
- Опять? Опять голова набекрень?
- Нет, правда, Виля. Правда.
- Я спрашиваю: опять за свое?
- Нет, Виля.
- А скажем что?
- А мы вернемся. И я вернусь.
- Ладно, посмотрим.
Сказано - сделано. Продали кое-какие вещи: сперва мелочь, потом сапоги, хромовые, высокие, нос уточкой, какую-то статуэтку, найденную в разрушенном доме, несколько тяжелых томов издательства Вольфа, кажется Гоголь, Белинский, Лермонтов, и отправились походить по Украине. Так, от села к селу, от города к городу. Кому покосить, кому поколоть дров... На Украине теплее.
Был Киев... взъерошенный, но какой-то удивительно звонкий, солнечный и в общем-то спокойный и деловой. Были развалины Крещатика. Обломки стен, груды кирпича, перекрученные балки, но, странное дело, то была уже не война, а экспонаты войны, которые уже не давили на сердце, не заставляли опускать голову. В людях жила надежда, предчувствие близкого счастья, покоя. Под каштанами Киева истерзанные войной люди смеялись, как дети. «Будет хорошо! Будет замечательно! Будет лучше! Будет... Будет... Будет...»
Была страна с немазаными хатами, с калеками и нищими в вагонах, с пнями вместо садов, с одинокими черными печами в полях. И как это жутко, если в поле стоит печь — и больше ничего, только холмики рядом. Что здесь было? Кто жил тут? Может быть, хороший дидо, который натягивал по утрам свою суровую рубашку, крепкую и серую, открывал скрипящие ворота клуни и вот постукивал там, мастерил что-то. А рядом был сад, красно-зеленые ветки вишен, янтарные улитки клея на вишнях, колодец с журавлем, и на крыше, на груде хвороста — одноногий аист, и запах молока во дворе... Чего только нельзя представить себе, увидев черную печь в поле...
...Сначала у нас все было просто: в руках палки, в животах звон, и вот так, пешком, километр за километром.
После Киева — Винница.
В Виннице черноглазая спекулянтка наобещала нам золотые горы, и мы работали на нее: продавали на рынке пластмассовые гребешки. Она давала нам каждый день двадцать рублей, и мне нравилось, что она говорит с нами певуче, по-доброму и зубы у нее голубые. И спать нас она укладывала на широкую деревянную кровать, возле которой ставила кринку парного молока. И сама укрывала нас одеялом. И я подумал, что в Виннице жить можно, остаться можно.
Но Вилька сказал:
— Сволочь она. Людей обирает. Пошли.
И мы пошли.
Мы свернули на север и в Фастове мостили дорогу. В Коростыне взялись пасти скот. В Коростышеве копали картошку. И по утрам ели эту картошку со шкварками и кислым неснятым молоком. И всюду нам говорили, что мы «хлопцы гарни, а тут така земля, таке сало, таке жито, таки писни...». Я слушал все это, но Вилька тянул меня дальше. Все дальше, и мы брали свои палки и снова отстукивали километр за километром.
Это, между прочим, не тягомотно, как можно себе вообразить, и теперь не могу вспомнить, по какой именно причине, дойдя до Новоград-Волынского, мы забросили собственный транспорт и выкинули наши палки. Мы стали ездить на крышах вагонов. Дрожали, боялись контролеров, ползали вверх-вниз по крутым железным лестницам, были совсем черными от копоти и пыли. Города теперь мелькали один за другим. Последним в нашем походе был Львов. Помню синий и чистый день, неподвижную листву на деревьях, выложенную на песке белыми камешками надпись: «МЫ ПОБЕДИЛИ», непонятно долгую остановку перед станцией и, наконец, сам вокзал, гулкий, весь забитый людьми, и всюду — на платформе, в буфете, в скверах, на площади — шинели. Было лето. Был август — месяц многих цветов. Но повсюду носился только один запах — потных и продымленных шинелей.
На привокзальной площади мы кинулись в общую свалку. Продавали пиво, наливая его в пол-литровые банки. Нас оттолкнули.
—А ну, хлопцы, — сказал солдат с буденовскими усами, протягивая нам две банки. — Сам расквитаюсь... И у меня был вот такой же, — и вдруг заплакал, кривя и кусая губы, роняя серые слезы.
Когда мы немного отошли, он догнал нас, стал предлагать деньги и серебряный портсигар, плоский, совсем новый.
— Вот у меня бул хлопчик. У девятый класс пошел бы... О таки же волосы черны булы, как у тебя. На гроши. На що они мени? Бул хлопчик. Нема.
Большой рукой он развозил по лицу слезы, потом вдруг схватил меня за грудь, почему-то именно меня, и начал трясти, страшно ругаясь и дыша водкой. Я взял портсигар. Он посмотрел благодарно, отвернулся и пошел пить пиво, повторяя: «Сынку, сынку...»
Я повертел портсигар и протянул Вильке. Он пожал плечами, отвернулся.
Львов понравился нам. Мы увидели красивый город, чем-то непохожий на другие. Старинные здания, молчаливые и загадочные, и каждое с какой-то своей изюминкой, узкие улочки, тенистые и как будто вымытые балконы, и стены, увитые зеленью, крохотные частные магазины, трамваи с открытыми площадками — там можно было курить, никто не обращал на это внимания. Это был очень старый город, и веяло от него тихой и чуть печальной мудростью. Памятник Мицкевичу, красивый, пожалуй не в меру тяжелый, театр, большие гостиницы... Мы бродили по знаменитому кладбищу, где все было тайной и все неподвижно: и серые кресты, и черные плиты, и белые ангелы, и желтые пропеллеры, и бледно-зеленые вязы, и песчаные тропинки, и сам воздух, мутновато-голубой...
И нас испугала могила, на которой стояли горящие свечи, — вокруг никого, поросшие мхом склепы, ржавые ограды, варшавские фотографии на фарфоре, и неожиданно — свечи по краям старой могилы — кто-то зажег их и ушел, — и они спокойно горели, тонкие и печальные, н теплый воздух струился над ними. Земля пахла солнцем.
А город, если смотреть на толпу, резкую и нетерпеливую, напоминал огромный вокзал, откуда люди двигались на Восток — и как можно скорее, и все равно как. И в центре этого вокзала был рынок, а точнее, выражаясь языком того времени, барахолка. И не бедная, не нудная, не привычная, пахнущая нафталином, ржавым железом, сопревшим войлоком, а этакая международная, искрящаяся, сверкающая, лоснящаяся, шуршащая и донельзя щедрая.
— Сто рублей — не деньги...
— Битте, мадам, часики! Отдам задаром!
— Купи аккордеон, будешь играть барыню!

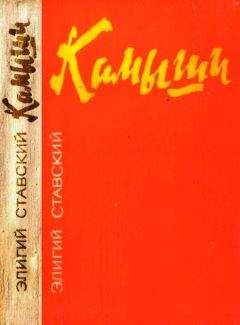

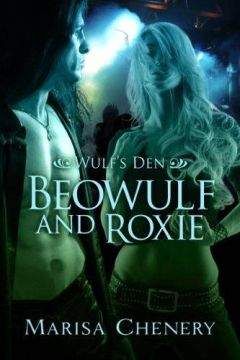
![Светлана Чистякова - Наследники Падших Книга вторая Трудно признать [CИ]](/uploads/posts/books/3156/3156.jpg)