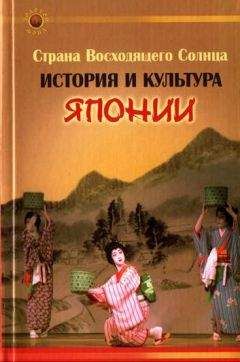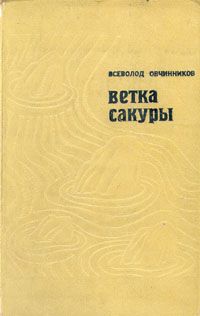Осаму Дадзай - Современная японская новелла 1945–1978
— Пальто прекрасное.
— Сколько дадите? — спросил я.
— Даже не знаю… — Женщина снова улыбнулась. — Надо спросить у папаши.
Она поставила меня в глупейшее положение. Если она не оценивает вещей, чего ради я так волновался. Но главное другое — меня покоробило сказанное ею слово «папаша».
Женщина встала, чтобы позвать «папашу». Из-под черного кимоно выглянули белоснежные носки. Не по возрасту скромное кимоно, гораздо скромнее того, что носит моя мать. Значит, «папаша» ей не отец — это ясно. Но в то же время женщина не была похожа и на замужнюю хозяйку лавки.
Вышел «папаша». Это был мужчина могучего телосложения. Маленькая женщина доходила ему лишь до плеча. Когда этот толстяк, шурша своим огромным коричневым кимоно, сел напротив, мне показалось, что передо мной бык или бурый медведь. Ему было под пятьдесят. Между ним и женой разница, наверно, лет двадцать.
— Хорошее пальто, — сказал и он и, покачиваясь, добавил: — Ну что ж, себе в убыток — пятьдесят иен, пойдет?
Я изумился. Он предлагал намного больше, чем я рассчитывал. Время было военное, и цены на старые вещи непрерывно росли, но все равно эти пятьдесят иен показались мне непомерной суммой. Разумеется, я сказал, что сумма меня устраивает. Хозяин расправил пальто на огромных коленях и вдруг сказал, подняв ко мне заплывшее жиром медвежье лицо:
— Ух ты. Я и не заметил. Воротник-то порядком потерт.
«Крышка», — подумал я. Я и сам знал, что воротник пообтрепался.
— Да, здесь уж ничего не поделаешь. Самое большее могу дать половину.
Это тоже было неплохо. Но мне почему-то показалось, что и мое человеческое достоинство срезали наполовину.
Женщина (сейчас, рядом с «папашей», она выглядела настоящей хозяйкой) достала из сейфа деньги и, отсчитывая их, снова взглянула на меня с улыбкой. Чувствуя, что совершаю нечто постыдное, я взял деньги.
На что я употребил эти деньги — не помню. Помню только, что прошло лето, прошла осень, наступила зима, а у меня не возникало желания выкупить пальто.
Я вносил проценты, закладывал вещи, выкупал заложенные в других местах и относил их в эту лавку.
Каждый раз жена ростовщика, улыбаясь украдкой, разговаривала со мной. …В лавке было тихо и уныло, как в храме. В глубине виднелась толстая железная, как у сейфа, дверь, которая вела в хранилище. Оттуда тянуло холодом и затхлостью мертвечины, смешанной с запахом плесени. Но стоило ей улыбнуться, и сразу же все вокруг оживало, точно зажигали светильник, и лавка сразу приобретала жилой вид, становилась уютной.
Я понимал, что мне нужно быть осторожным. «Папаша» почти никогда не показывался, но мне не следовало забывать, что каждый раз, когда я любуюсь ее улыбкой, где-то за ее спиной маячит верзила — то ли чересчур великодушный, то ли чересчур лукавый — не понять.
Может показаться, что я влюбился в жену ростовщика. Нет, ничего подобного не случилось. Правда, если бы меня спросили, что такое любовь, я бы не смог ответить, но, так или иначе, я почему-то теперь неизменно пользовался только этой лавкой. Можно сказать, видимо, так: «Тот, кто занимает деньги, непроизвольно стремится завоевать доверие того, кто их дает, и поэтому всегда снедаем желанием понравиться ему, а это уже движение сердца, близкое любви». …Бывая в лавке, я всегда поражался этому.
Когда кончались летние каникулы и я пришел в лавку, чтобы выкупить свою форму, женщина сидела, за прилавком, подперев щеку рукой. Она была бледна.
— Вы в кого-то влюблены? — спросила она участливо.
— Почему вы так думаете?
— Зачем бы вам столько денег, не будь любимой девушки?
Захваченный врасплох, я не знал, что ответить. Женщина сказала, что, не иначе, я где-то прячу любовницу, если по дороге из родительского дома в университет так часто забегаю к ростовщику. А у меня никакой любовницы не было, и я решительно тут же заявил, что она ошибается.
— Но женщин вы, наверно, уже знали?
— Разумеется.
— Вам не следовало бы доставлять столько беспокойства своим родителям.
Меня прямо передернуло. «Вам-то какое дело», — хотел я ей сказать.
Взглянув на нее, я увидел, что ее бледное лицо покрылось капельками пота. Мне стало не по себе. Наверно, она вся такая потная, до белоснежного воротничка, выглядывающего из-под кимоно. И в ее склоненной фигуре, во всем ее облике я вдруг ощутил Женщину со мной такого прежде никогда не бывало.
Начался новый семестр, но в моей жизни ничего не переменилось. Я по-прежнему и от учебы отлынивал, и беспутничал, но без всякого удовольствия.
Мать все беспокоилась, что у меня такие приятели, как F., но к тому времени все они уже покинули меня. Я не был столь отчаянным, как они, мне не хватало храбрости без оглядки идти «дорогой беспутства». Был у нас один дальний родственник, который никогда в жизни не работал, не женился и в конце концов, растеряв все свое имущество, умер факельщиком на похоронах.
— Ты тоже хочешь стать таким же? — без конца повторяла мать и обращалась со мной так, будто я и в самом деле похож на этого родственника. Она махнула на меня рукой и была бы, наверно, довольна, если бы из меня и в самом деле ничего путного не вышло. В общем, жена ростовщика зря меня упрекала. Во всяком случае, я был не таким уж плохим сыном.
В конце концов я даже перестал ездить на «экскурсии». Мне уже и в голову не приходило тащиться через весь город на окраину, чтобы потом, усталым и измученным, добираться домой. Намного приятнее было сидеть в лавке ростовщика и разговаривать с хозяйкой.
Она, видимо, решила, что на своих «экскурсиях» я заразился дурной болезнью и теперь лечусь. Она спокойно рассуждала об этом и даже сказала, что прекрасно понимает меня — с ней, мол, тоже когда-то случилось такое же.
— Вот почему я не могу иметь детей. Сейчас успокоилась и не так уж хочу ребенка, а прежде…
Мне очень хотелось узнать, чем она занималась раньше, но спросить я не решался.
О ее муже (а может быть, совсем и не муже, а хозяине) мне было известно и того меньше. Видимо, у него было много разных лавок, разбросанных по городу, и он каждый день бывал то в одной, то в другой, но так ли это на самом деле, я точно не знал.
Однажды женщина предложила мне билет в кино:
— Ну что я за недотепа. Вот купила, а пойти не могу.
Я подумал, что она имела в виду не только свое нынешнее положение, но и прошлое тоже, и, чтобы подбодрить ее, сказал:
— Почему не можете? Разве нельзя попросить, чтобы кто-нибудь присмотрел за лавкой?
— Но одной идти… Вы же не составите мне компании?
— Отчего же, я охотно пошел бы.
Но женщина, как и следовало ожидать, улыбаясь, покачала головой. Я не сомневался, что так и будет. Она верна своему мужу, мне это было приятно, но в то же время и обидно, что не смогу пройтись с ней по улице.
В мире становилось все неспокойнее. Однажды в кино я был поражен, услыхав «Песню фашистов», запрещенную правительством Бадольо, а когда вышел на улицу, там продавался экстренный выпуск, в котором сообщалось о капитуляции Италии и новом приходе к власти Муссолини.
Казалось бы, все оборвалось на полпути, а тут снова начинается.
Чтобы с помощью ускоренной подготовки срочно восполнить нехватку младших офицеров армии и флота, началась мобилизация студентов. Как раз в это время в лавке ростовщика мне поручили необычную работу: предложили привести в порядок книги, оставленные в закладе студентом, которого внезапно отправили на фронт.
Сначала я отказался, честно признавшись, что плохо разбираюсь в книгах.
— Но лучше, чем папаша, — сказала женщина, — и в конце концов я решил согласиться.
Так я впервые попал в хранилище. Его каркас был сделан из толстенных бревен, между которыми была натянута металлическая сетка от мышей — как в тюрьме, подумал я.
Книг было всего двести — главным образом переводная художественная литература, но были и японские, всё новые и тщательно подобранные, так что я понял: мне предстоит не особенно обременительная работа — сложить их в ящики. Собрание сочинений Бальзака, Собрание сочинений Жида, Собрание сочинений Достоевского, Собрание сочинений Гёте, Собрание сочинений великих мыслителей — все тома без единого пропуска. Надо же такое — одни собрания сочинений, восхитился я, недоумевая. О чем думал этот призванный в армию студент, заложив все свои книги ростовщику? Может быть, он никогда в жизни так и не узнает, что его библиотеку приводил в порядок такой беспутный человек, как я.
Я вдруг отчетливо представил себе этого студента: как и я, он то и дело появлялся в лавке ростовщика и перетаскал сюда одну за другой все свои книги. Я даже почувствовал вдруг расположение к нему: он не читал и не продавал книг, а закладывал их, чтобы когда-нибудь выкупить, уплатив проценты, на полученные им деньги снова покупал книги, которые опять закладывал. Но в то же время я не мог не ощутить неприятное чувство, будто к телу моему прилип злобный призрак — человека, который механически повторял одно и то же и не собирался делать ничего иного, — мне казалось, что он неотрывно следит за мной в этом хранилище, затянутом металлической сеткой.