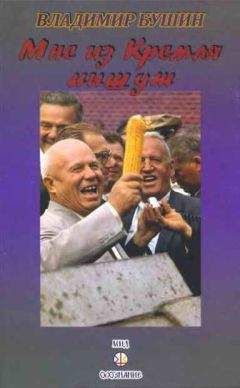Густав Беннеке - Современная норвежская новелла
Одд сказал это просто так.
Сказал потому, что такое нельзя не сказать. Такие новости срываются с языка против воли, даже если человек понимает, что это может кончиться плохо, и чувствует, что надежды напрасны; даже если его вера в удачу может быть выражена коротким, но скорбным уравнением: «Шансы = 0».
Сказать все равно было надо.
Ведь если в кои-то веки в Хенгсенгене, да еще в воскресенье, в полдень, назначены авиационные состязания с участием норвежских и иностранных летчиков и билеты стоят две кроны для взрослых и одну для детей и если Одд и Малыш весь вчерашний день только и говорили про этот праздник, значит, обязательно нужно было сказать. А потом — будь что будет. Пусть даже сперва короткая речь о том, какие бывают на свете неблагодарные дети; затем — мрачный анализ материального положения семьи; затем — трагическая картина детства главы семьи, никогда не знавшего развлечений, клятвенное заверение, что он сроду не ходил ни на какие воздушные праздники, которых, по счастью, в те времена еще не было; и в заключение энергичный призыв: вспомнить о тех тысячах (если не миллионах) бедняков, у которых вот сейчас, вот в этот самый миг, нет даже сухой корки на пропитание, «тогда как мы сидим за завтраком в нашей столовой и нам следовало бы радоваться и благодарить судьбу, а вы вместо этого…»
А сказать все равно надо было!
Даже если за этим последует самое страшное: спокойный, но твердый приказ поскорей доесть овсяную кашу, потому что «сейчас мы все вместе отправимся в церковь».
Зато теперь все уже сказано.
Воздушный праздник в Хенгсенгене стал фактом, и все члены семьи должны как-то выразить свое отношение к нему. Если же вдруг окажется, что Одда никто не слышал, придется повторить. Короче: воздушный праздник состоится в полдень.
Молчание.
Долгое молчание.
Молчание, какое всегда бывает за завтраком в воскресенье.
Отец доедает голову от вчерашней рыбы и молчит. Малыш медленно жует, будто глотая пищу, а на самом деле скатывает ее в комок, прячет за щеку — и молчит. Одд ест овсяную кашу, молчит и тоскливо ждет отказа.
Одд заранее начинает себя жалеть. Первым делом отыскивает в тарелке самую жирную пенку, кладет ее на язык и долго сосет: противнее пенок ничего нет на свете. Потом долго разглядывает вторую рыбью голову, которая осталась на блюде: ничего нет противней холодных рыбьих голов. Затем начинает думать о том, каково смирно сидеть в церкви и слушать проповедь. И еще — каково быть мертвым и лежать в гробу.
В столовой все так же тихо.
Засунув в рот последний кусочек булки, Малыш проглотил его: за щекой больше нет места. Мама едва заметно вздохнула. Папа выплюнул в тарелку длинную цепочку рыбьих костей, вперемежку с кожей, глазами. Другая рыбья голова глядит на Одда мертвым недобрым взглядом.
Отец прокашлялся. Приподнял крышку на коробке с сыром…
И невероятное сбылось.
Крупные блестящие монеты позвякивают в теплых варежках, всю ночь сушившихся на батарее. Рантовые башмаки — только что из починки — топают по лестнице вверх и вниз. Скорей, Малыш! Скорей, Одд! Мы же опоздаем! Вот вам шарф, бутерброды, смотрите только… Смотрите не попадите под трамвай, берегитесь машин, помните: обед ровно в четыре… Наконец последний отчаянный вопль из парадного:
— Берегитесь пропеллера!
Солнце растопило снег, и тротуар покрылся льдом. Он слегка крепился к мостовой, и братья в скользких ботинках то и дело съезжали в канаву, тянувшуюся вдоль сугробов, насыпанных отцом. Дальше дело пошло веселей. Но вдруг остановился Малыш: на ботинке развязался шнурок. И еще ему надо было отделаться от жесткого комка за щекой. Оба замерли и прислушались, не идет ли трамвай… Но нет… пока еще нет. Только взобравшись на пригорок, они услышали скрип тормозов. Он уже за поворотом!
С решимостью отчаяния они вцепились друг другу в варежки и во всю мочь помчались вниз с крутого обледенелого взгорка. Они бежали и спотыкались и опять спотыкались и скользили, подбитые железом каблуки выбивали из льда искры; отстегнувшиеся козырьки меховых шапок шлепали братьев по носу. Сердца мальчишек бешено колотились. И вдруг, совершенно одинаково расширив глаза, братья разом победно взвыли, заглушив скрежет притормозившего трамвая: — Давай в прицепной!
И все началось.
Они уже не верили, что когда-нибудь доберутся до места. Чем ближе они подходили к Хенгсенгену, тем трудней было идти. Да и где этот самый Хенгсенген? Где-то он должен быть в конце длинной черной вереницы людей, медленно ползущих по бесконечно длинной дороге, покрытой жестким утрамбованным снегом и кое-где усыпанной конскими яблоками. Но где же, где? Тьма широких спин в нарядных зимних пальто закрывала вид. Как много толстых дам в меховых шубах!..
Стараясь всех обогнать, братья выбрались на обочину. Брели, пыхтя, по пояс увязая в снегу. За ними по белому насту тянулся темный неровный след. Впереди шел Одд, за ним — Малыш, который скулил и хныкал:
— Мы же опоздаем!
Самое страшное было, когда они увидели высоко-высоко в синем небе три крохотных самолета. У обоих — там, в снежных тисках — вырвался вопль, бессильный вопль обиды, отчаяния, гнева:
— Все уже кончилось!
Временами они все же возвращались назад к дороге, вклиниваясь в толпу бредущих по ней людей, и, срывая с себя меховые шапки — а с потных стриженых голов так и валил пар, — разом выкрикивали:
— Простите, вы не скажете, который час?
Нет, они никогда не доберутся до места…
Они пришли на два часа раньше, чем надо.
Праздник должен был начаться через час, а начался еще на час позже. Молча, упорно сжав руки в варежках в кулаки, неустрашимо надвинув на глаза меховые шапки, они пробились сквозь ряды зимних шуб, и вот уже они стоят у веревки, отделяющей зрителей от летного поля… Каждый стоит в ямке, вытоптанной им в снегу — от холода костенеют ноги, — и каждый уже съел по куску хлеба с колбасой и еще по куску — с медом. Оба успели также незаметно для окружающих выбросить бутерброды с овечьим сыром и теперь не знают, чем еще им заняться.
— Давай наперегонки читать на память список мужских имен? Тот, что напечатан на последней странице телефонной книги? — предложил Малыш.
— Давай, — согласился Одд. Оба начали хором так быстро, как только могли, выкрикивать имена. И оба совсем одинаково смешно выпучивали глаза:
— Андреас, Бернхард, Виктор, Габриэль… — В начале все шло как по маслу.
— Давид, Енс, Жан, Ивар…
Дальше шло уже не так гладко, но все же шло. Зато теперь настал черед самых великолепных имен во всем списке: называть их было одно удовольствие, так легко вылетали они изо рта:
— Карл, Ларс, Мортен, Нильс!.. — Не имена, а сливки во рту, одни сливки без единой пенки!
— Одд, Петер, Рагнар… — А вот дальше дело застопорилось.
Малыш совсем запутался, да и вообще оба теперь запинались и заикались, так что самим невмоготу было слушать. Когда же они выдохнули напоследок: «Эрик, Юхан, Якоб», оба уже были без сил. Малыш чуть не плакал. Он ведь так здорово знал наизусть все имена! Зато он взял реванш во втором раунде. Изловчившись, он вырвался вперед еще на старте и удерживал первенство вплоть до «Енса».
— Андандреас, Бербернхард, Ви-виктор, Габ-габриэль, Д-давид, Е-енс, Жан, Ивар, Карл, Ларс, Мортен, Нильс, Одд, Пет…
— Гляди! — крикнул Малыш.
Оба чихнули, подняв глаза к яркому мартовскому солнцу: крошечный серый самолетик, низко летевший с запада над горным хребтом, все рос и рос и наконец, с грохотом ворвавшись в небесный купол над аэродромом, прогремел над головами братьев.
— Смотри, норвежец! — со знанием дела объявили в задних рядах.
— Норвежец! — восторженно крикнул Малыш.
— Гляди, Малыш, воздушный балет! — воскликнул Одд.
Они стояли — каждый в своей ямке — и слезящимся левым глазом, сощурив правый, смотрели в небо. Высоко в слепящем, искристом свете кружился серый самолет со сверкающими на солнце крыльями и хвостом: чудо, сказка, бесстрашная птица, покорившая яркую синь неба.
— Он крутит в воздухе колесо! — восхищенно воскликнул Малыш. — Гляди, Одд! Он все вертится и вертится, как…
— Это мертвая петля! — обрезал Одд.
— Нет, смотрите! — зарокотала толпа. — Да он совсем свихнулся. Не сносить ему головы!.. Нет, вы только поглядите… в жизни ничего похожего не видали!..
— Тише ты! — предостерегающе прохрипела старая дама, которая каких только ужасов не нагляделась в своей жизни и потому грозила негоднику зонтом: — Тише! Кому говорю!
— Да шлепнись же ты наконец, окаянный! — исступленно пожелал кто-то в задних рядах. Но самолет в последний раз низко, с грозным рокотом, пронесся над морем белых запрокинутых лиц, кокетливо развернулся в самом конце летного поля и затем, кашляя и пыхтя, спустился на землю.