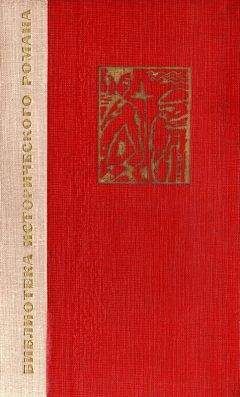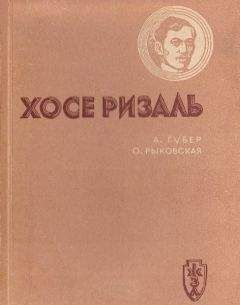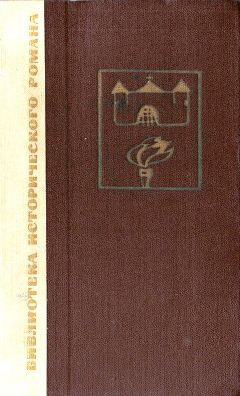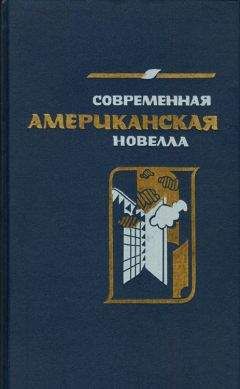Эфрен Абуэг - Современная филиппинская новелла (60-70 годы)
— Тогда начинай задумываться прямо сейчас. Самое время.
Мне было интересно, почему ее слова вдруг зазвенели так пронзительно. Оказывается, умолкло пианино. И установилась ночная тишина, и улегся ветер.
Я встал с шезлонга. Подошел к приемнику, включил его в сеть и открыл крышку. Белл последовала за мной. Я покрутил ручку настройки, ища музыку. Белл протянула руку и захлопнула крышку.
— В чем дело, Белл? — удивился я.
— Да ни в чем.
— Тогда перестань. Оставь в покое и их, и меня.
Белл помолчала, потом произнесла:
— Это она.
— Что она?
— Мне кажется, она не любит меня, — промолвила Белл.
— С чего ты это взяла?
— Я дарила ей подарки — они ей не нравились. В последний раз на день ее рождения я подарила ей сыр — она даже не поблагодарила!
— Да зачем ты вообще приплела сюда подарки?! Может быть, она ненавидит сыр! А может, сыр в день рождения — глупо?!
— Она терпеть меня не может, — твердила Белл. — Как и всякого, кому я нравлюсь. Когда он подарил мне цветы из ее сада, вряд ли ей это пришлось по душе.
— Ну, это мало кому понравилось бы, — сказал я. — Затея с цветами — не самая удачная, как и с сыром.
— Он попросту дружески симпатизирует мне, а я — ему!
— Ну разумеется. — Я не стал спорить.
— Он вел себя по-добрососедски — я верю в такие взаимоотношения!
— Да, да, конечно, — поддакнул я.
— А она не хочет себя так вести и не верит в добрососедство. Вот и ему не позволила!
— Белл, — взмолился я, — но ведь я их совсем не знаю. Это твои знакомые.
— Нет, и твои тоже! Ты иногда катался с ними на автомобиле!
— Только однажды! — Я принялся оправдываться. — Я сидел на переднем сиденье, а она, выходя из машины, хлопнула его по заду. Это и был первый и последний раз!
— И что же, тебя этот ее шлепок возмутил?
— Ну, это их дело. Мне только не понравилась некоторая нарочитость: она словно бы дала понять — он мой, а я — его.
— А то, что она разгуливает по саду в безобразно коротких шортах, — это, по-твоему, не нарочитость?! — вспылила Белл.
— Мне все это не по душе. Но не я же придумал переезжать сюда, — сказал я.
— Ты тоже! Ты и я — мы оба!
— Разве не он привез тебя сюда впервые взглянуть на эти дома?
— Он сам хотел посмотреть свой будущий дом, а меня подвез просто из любезности!
— И во второй раз — из любезности, и в третий?
— Но мы же собирались поселиться рядом! — доказывала Белл.
— В этом квартале — сорок домов. Почему мы выбрали именно этот, рядом с ними?
— Это столько же мой выбор, сколько и твой! — настаивала Белл.
— Ты права, — согласился я. — И теперь ничего поделать нельзя.
— Да, ничего не поделаешь.
— Вот и прекрасно. И отстань. Отстань от них и отстань от меня.
— Но ты обязан что-нибудь предпринять! — заявила Белл.
— Я?
— Да, ты. Они не так ставят этот забор: он ближе к нашему дому, чем к их. К ним отходит большая часть лужайки!
— Неужели? — Я подошел к окну. Было еще достаточно светло, чтобы в призрачном свете можно было различить злополучную границу. Видны были и цветы — розы, циннии, георгины, — они пылали во мраке. Я вернулся в кресло, поглядел на стенные часы. Четверть девятого. Бой часов раздался в тот момент, когда я опустился в шезлонг. Ноги я положил на скамеечку.
— Им досталась большая часть лужайки, — повторила Белл.
— Может быть, она нужна им под цветы? — спросил я.
— Они разделили ее нечестно! — твердила Белл.
— Ты хочешь сказать, что две половины не равны? Что это, в сущности, вовсе не половины?
— Что с тобой? — удивилась Белл.
— Со мной? С ним! Разве не он — доктор математики? Нечего сказать, хорош доктор математики, не умеющий делить пополам!
— Какая муха тебя укусила?
— Может, ему требуется полк землемеров с теодолитами, отвесами и вешками?! Может, тогда он сможет разделить их пополам? Может, он и на десять частей будет тогда в силах разделить?! — Я бушевал.
— Мне-то ты зачем все это говоришь? — возмутилась Белл. — Скажи ему! Скажи им!
— Слишком громко пришлось бы кричать.
— Давай, давай! Выскажи им все! Пусть знают! — Белл подзадорила меня.
— Отстань, Белл, — промолвил я. — Оставь их в покое!
— Пожалуйста, если ты хочешь.
— Отстань от меня!
— Как хочешь, — сказала Белл. — Могу хоть сию минуту! — И двинулась к двери.
— Слишком громко пришлось бы кричать, Белл, — примирительно сказал я. — Да и знаю я их недостаточно, чтобы вообще с ними говорить. Лучше я напишу им.
— Вот и отлично! — согласилась Белл.
Портативная пишущая машинка в специальном чехле стояла под моей кроватью. Я водрузил ее на обеденный стол. После этой операции мои руки оказались покрыты слоем пыли. Я поднял крышку, но не сумел снять машинку с подставки. В углах крышки пауки свили паутину. Между машинкой и краями подставки — тоже паутина. Во всем доме не нашлось ни листочка белой бумаги, поэтому мне пришлось использовать лист желтой почтовой бумаги подходящего размера.
Дату я решил не ставить. Письмо должно быть коротким и сугубо деловым. Как зачарованный я следил за рычажками, сновавшими взад и вперед, оставляя черные значки на желтой бумаге. До меня донеслись вступительные такты «Женитьбы Фигаро» — у соседей включили проигрыватель.
— Математика и Моцарт, — пробормотал я. — Моцарт и математика.
Я напечатал свое имя, но не подписался. Письмо заняло меньше половины листа. Я перегнул лист пополам и оторвал чистую половину. Ее я вставил обратно в машинку, а письмо отдал Белл.
— Вот, — сказал я, — коротко и ясно. Думаю, им понравится.
Белл принялась читать. Молча дочитала до конца.
— Ну как? — поинтересовался я.
— Сойдет, — сказала Белл.
— Так отправь его, — сказал я.
— Хорошо. — Она позвала Ната и велела тотчас доставить письмо.
В тот вечер мне не удалось дослушать Моцарта. Примерно на середине оперы (это соответствует окончанию лицевой стороны долгоиграющей пластинки) музыка прервалась. Потом я увидел, как он вышел из дома.
Я выпрямился в кресле, наблюдая, как его голова поднималась и опускалась в такт шагам, пока он шел к Финчшафен-роуд. Когда он повернул за угол, я уже понял, куда он направляется, и встал. Стоя у входной двери, я смотрел, как он идет по тротуару к крыльцу. Возле лестницы он остановился. Сквозь жалюзи я видел его поднятое лицо.
— Что вам угодно? — не выдержал я.
— Можно вас на минуту?
— Меня?
— Да, вас.
— Может быть, подниметесь? — предложил я.
— Нет, нам лучше поговорить на улице.
— Ну что ж, — согласился я, — если так вам больше нравится.
Я спустился к нему. Мы пошли рядом по тротуару. Едва мы миновали угол дома, холодный ночной ветер полоснул меня по лицу. Левая щека захолодела.
— Ну, — начал я, — что произошло?
Мы шли по Финчшафен-роуд. Он молчал довольно долго. Я посматривал на него. И ждал. Раньше мне не приходилось с ним разговаривать. Он дал мне достаточно времени, чтобы я мог оглянуться на свой дом и разглядеть Белл в окне; он полагал, мне это необходимо.
Когда он заговорил, первые слова его были:
— Вы ссорились с Белл?
Дело было даже не в словах — в тоне, каким он это произнес; моя левая щека до того захолодела, что я почти не чувствовал ее. Он говорил так тихо, так вкрадчиво, что я едва слышал его. Похоже, он не хотел, чтобы нас вообще слышали, словно мы с ним составляем тайный заговор.
— Ссорились? — удивился я. — С чего бы это? Почему? О чем вы говорите? — Я искал на его лице выражение вины — на нем должно было, как в зеркале, отразиться виноватое выражение моего лица.
Мы стояли на Финчшафен-роуд, как раз на полпути между нашими домами. Напряженно ждали и искали следы вины на лице друг друга — и смертельно боялись их обнаружить. Я стоял спиной к моему дому, он — к своему.
— Ваше письмо не очень-то дружелюбно, — промолвил он. — Это не письмо доброго соседа.
— А с чего бы ему быть дружеским? — возмутился я. — С какой стати!
— Да, да, — согласился он, — с какой стати!
— И все дело — в вас.
— Ну, если вы так считаете…
— А как же еще прикажете считать?!
— Раз так, — заявил он, — можете действовать официально, я не сдвину забор ни на дюйм!
— Господи, да при чем тут «официально»?! Кто вообще говорит о заборе? — рявкнул я.
— Не смейте повышать голос!
— Это почему же?
— Не кричите на меня!
— Я буду кричать, коли мне это нравится!
Была чудесная, ясная и свежая, ночь. Небо, чистое и холодное, полно звезд. Небо и звезды казались очень далекими, но воздух был столь прозрачен, что, похоже, можно было различить дорогу в небо, к звездам — это была долгая, бесконечная дорога. Она уходила туда, к бледному диску луны, и ледяной ветер овевал луну и белые облака поодаль, вдоль дороги.