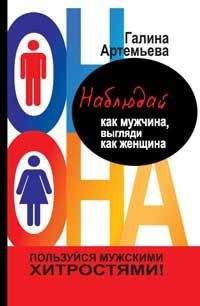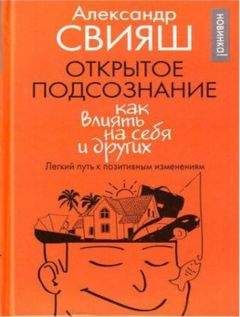Васко Пратолини - Итальянская новелла ХХ века
— В сущности, — сказала жена, — фашизм — это замечательная вещь!
— Разве я отрицаю, — ответил он, относясь всегда с уважением к мнению других.
— Они нам построили дороги, везде теперь порядок, никто не беспокоит приличных людей; помнишь, как коммунисты тебя освистали за то, что ты нес в руке кулечек со сладостями, к тому же еще и не нашими?..
— Это были сладости господина мэра, — сказал Альдо Пишителло.
— Мне нравится, как они воспитывают подрастающее поколение! Ведь молодежь просто без ума от Муссолини!
— Разве я что-нибудь говорю… Но я никогда не занимался чужими делами и просто не понимаю, чего они хотят от меня со своим фашизмом!
— Послушай! — сказала жена, начиная раздражаться, — Тысячи и тысячи людей умнее нас с тобою говорят, что фашизм это хорошо, а ты тут разводишь целую историю вместо того, чтобы записаться в фашистскую партию.
— Да нет, я даже польщен! Но видишь ли…
— А папа? Знаешь, что сказал папа про Муссолини? Что этот человек ниспослан провидением! Если уж папа, наместник бога на земле, не сомневается…
Жена долго распространялась в том же духе, пока, приподнявшись в порыве красноречия на локте, не увидела, что супруг ее спит. Тихо-тихо она опустилась на спину и продолжала размышлять про себя. Около двух часов ночи, не в силах более сдержать злорадство, Розина разбудила мужа, чтобы поделиться с ним умозаключением, к которому пришла после столь долгого размышления.
— Нет, ты мне вот что скажи: ты что же, считаешь себя умнее папы?
— Что?.. Нет!.. Какого папы!.. — вскричал Альдо Пишителло в ужасе, который ему внушали по ночам все эти мысли о папах, императорах, королях, диктаторах, министрах, генералах, так напоминающие ему бездонные, темные ущелья, где свистит и завывает ветер. Но потом он успокоился, закрыл глаза и, проглотив слюну, еле слышно произнес:
— Завтра я вступлю в фашио!
С 1930 по 1934 год жизнь Альдо Пишителло текла так гладко и была так проста и монотонна, что в ней никак не за что было бы ухватиться не только автору этих строк, но даже самому великому писателю или поэту.
На его черном пиджаке сидел, как майский жук, значок фашистской партии с изображением дикторского пучка, и он время от времени, опустив голову и скосив глаза, глядел на него с таким непонятным выражением, что каждый мог бы сказать: «Он его любит, он ему нравится, он его ненавидит, он его боится, он ему мешает, он его щекочет, он его царапает, сейчас он его снимет, сейчас он его проглотит, да нет, он его сдует, вот увидишь, он его поцелует!»
Но он ограничивался тем, что проводил по значку левым рукавом, словно обтирая его, чтобы он лучше блестел, и продолжал что-то писать в своих толстых книгах.
Никому не удавалось вытащить из него хоть слово о политике. Он скрупулезно выполнял все свои обязанности члена фашистской партии, как до того двадцать лет выполнял обязанности муниципального служащего: надевал в положенные дни черную рубашку, читал печатный орган партии, ходил в районный клуб, а по субботам после работы в организованном порядке посещал полутемные залы музеев и слушал, как эхо шагов муниципальных служащих разбивалось о холодный мрамор статуй. Но хотя в тот период лица итальянцев, головы которых были острижены на военный манер наголо и насажены на квадратные подложенные плечи спортивных пиджаков, постепенно — сначала у молодежи и спортсменов, а потом также у пожилых людей, специалистов, представителей свободных профессий и вообще всех благонамеренных граждан, — начали приобретать выражение неистовой ярости, физиономия Альдо Пишителло неизменно сохраняла прежнюю мягкость, в силу какового обстоятельства он казался скорее пожелтевшим от времени портретом итальянца, чем живым, настоящим итальянцем. Это любезное, мягкое выражение его лица не укрылось от взгляда руководителя районной организации, когда тот, напыжившись, как петух, выступал со сцены районного клуба перед собранием чернорубашечников.
— Эй вы, камерата, там, в конце зала!..
Пишителло поднялся с самой любезной и почтительной улыбкой, на какую был только способен:
— Я?
— Да, вы, вы!
Районный руководитель уставился на него с недовольным и вместе с тем растерянным видом — он чувствовал, что с этим типом что-то неладно, что он чего-то не того, но никак не мог понять, в чем же дело, и ограничился лишь проклятием:
— Чтоб вас…
К Пишителло был приставлен шпик, не потому, чтобы он внушал уж такое большое беспокойство, а просто так, на всякий случай, и еще потому, что было очень много шпиков, которые целыми днями бездельничали и не знали, как убить время. Агент доложил, что Пишителло за тот период, что находился под наблюдением, произнес семь слов политического характера, причем все они были преисполнены почтения к фашистскому режиму, а также добавил, что, проходя мимо фотографии дуче размером полтора метра на три, вывешенной на перекрестке у Четырех Углов, Пишителло неизменно дотрагивается до полей шляпы, и, наконец, сообщил содержание одной фразы, слегка подозрительной, но не носящей политического характера, которую Пишителло произнес в разговоре с одним из членов местного суда:
— Если бы немного не помогала теща, то, клянусь вам, на одно жалованье нам никогда не свести бы концы с концами…
Шел 1934 год, и в доме Пишителло изо дня в день подавали на стол на два-три блюда меньше, чем это было необходимо пятидесятичетырехлетнему мужчине, пожалуй, и так излишне худощавому, женщине, которая целый день трудилась дома, а также, по-видимому, и вне дома (в этом отношении Пишителло предпочитал никогда не проявлять излишнего любопытства) и трех ребятишек, постоянно испытывающих волчий голод — недаром партия считала их сыновьями капитолийской волчицы.
И потому, когда передали сообщение, что государство по-отечески заботливо решило выдать всем служащим-сквадристам премию в две тысячи лир, жена Пишителло так крепко сжала его в объятиях, что он потом долго кашлял и не мог прийти в себя.
— Но при чем же тут мы? — спросил Пишителло, имея в виду себя, детей, а также жену. — Ведь мы-то не сквадристы!
— Молчи! — сказала Розина. — И до чего ж ты только глуп!
Мы не располагаем сведениями относительно того, на какие комбинации пустилась эта женщина — настоящий черт в юбке. Но только дней через двадцать Пишителло узнал, что он состоит в фашистской партии с 1921 года и, имея право считаться сквадристом, он обязан украсить черную рубашку красной ленточкой — «символом пролитой крови — своей и вражеской».
В тот день, когда жена, излучая всем своим существом радость по случаю получения двух тысяч лир, уже принесенных домой и разложенных на столе, нашила ему на рукав две красные полоски, физиономия Альдо Пишителло приобрела, помимо обычного выражения мягкости, еще одну весьма странную черту. Обычно он всегда держал рот закрытым, а когда ему приходилось говорить или улыбаться, приоткрывал его только самую малость и спешил вновь захлопнуть, едва успевало выйти наружу окончание последнего слова или полностью обозначиться улыбка. С того момента он не только продолжал по-прежнему держать рот закрытым, но к тому же еще явно старался поплотнее сжимать губы.
С этим обычным выражением лица он провел весь 1934-й и начало 35-го года. Его высказывания, и без того немногословные, свелись к редким односложным восклицаниям, но его поступки и все поведение, тихое и бесшумное, как у домашнего животного, стали с политической точки зрения абсолютно безукоризненными. Его физиономию, правда, неизменно сохранявшую то странное выражение, о котором мы говорили, уже можно было увидеть на множестве групповых фотографий местных фашистов, его имя уже фигурировало в тех заветных альбомах, которые, перевязав трехцветной лентой с бантом, преподносили министрам и партийным ревизорам рослые и бесстыдные девицы, а его начальник — подеста всякий раз, когда обращался к служащим, глядел на него и говорил:
— Мы, старые фашисты, мы, кто прошел огонь и воду…
И сам Пишителло в тот день на вопрос одного приятеля, обязательно ли надевать с фашистской формой высокие сапоги или это не такой уж священный долг, ответил:
— Да, конечно! Как же иначе?!
А немного спустя он состроил гримасу, не то чтобы выражавшую удовольствие, не все же сдобренную какой-то непонятной довольной улыбочкой, когда услышал о начавшемся в Германии преследовании евреев. Но однажды вечером этот тихий, мягкий человек, этот худой и молчаливый пятидесятичетырехлетний отец семейства совершил поступок… Вот что он сделал.
Придя домой и увидев, что никого из членов его семьи еще нет, он сорвал фашистский значок, дважды на него плюнул, швырнул на пол и принялся топтать ногами; потом поднял и поднес его, весь расплющенный и искореженный, к глазам, подержал так недолго, бросил в унитаз и на него помочился, затем палочкой извлек его, вымыл с мылом, обтер, немножко подправил и вновь вдел в петличку пиджака.