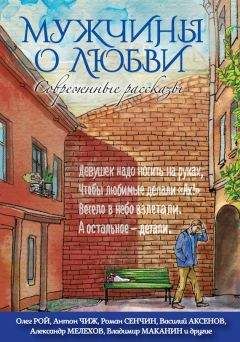Еремей Парнов - Драконы грома
Повсюду, где успела хоть как-то наладиться мирная жизнь, даосского мудреца встречали радостные, взволнованные толпы. Люди словно предчувствовали, с какой мыслью едет к ужасному Темучину этот худощавый приветливый старичок, прославивший имя свое невиданными чудесами.
Чан-чунь, который, несмотря на мудрость и необъятное знание, до преклонных лет сохранил удивительную наивность, ничего с собой, кроме книг, астрономических инструментов и приборов для герметического искусства алхимии, не вез. Все, что у него было и чем дарили его богатые владыки, он раздавал неимущим и остался на склоне лет бедняком. Но это не мешало хаганским наместникам встречать великого мага, как царя.
Отдохнув и повеселившись в неунывающем Самарканде, который он даже воспел в стихах («Весь город наполнен медными сосудами, сияющими, как золото»), Чан-чунь стал собираться в ставку. Уезжать ему не хотелось. Самарканд, где дышалось так вольно и легко, покорил его сердце. Его дворцы с висячими садами, бассейны, затененные сладко шепчущимися ивами, шумные базары и величавые минареты — все это показалось философу и поэту чертами забытой, но вновь обретенной родины. Он сразу узнал этот город, хотя ранее не видел его никогда. Жаль было расставаться и с крестьянами, которых он кормил из полученных на дальнюю дорогу запасов. Отощавших за осаду голодных детей он поднимал на ноги своей кашкой, которую варил сам по рецепту, известному ему одному. Труднее всего расставался он именно с этими малышами. Впрочем, он ни с кем и ни с чем не расстался. Поэтам свойственно самое дорогое навсегда уносить в сердце.
В конце апреля Чан-чунь оказался уже на другом берегу Аму. Благо плавучий мост через своенравную реку был уже загодя восстановлен сыном Темучина, Чагатаем. В Кешке к нему, по высочайшему повелению, приставили темника Бугуруджи с конвоем в тысячу латников, который и сопровождал гостя на опасном пути через ущелье Железные ворота. Затем даос и вся свита погрузились на корабли, чтобы переплыть Сурхан и Аму. В четырех днях пути от последней переправы находилась ставка.
Наконец они встретились! Это произошло 16 мая.
После традиционного обмена благопожеланиями хаган пригласил долгожданного лекаря и мага в свой шатер и усадил рядом с собой.
Он сам подал ему пиалу с чаем и разложил перед ним почетнейшее из угощений — вареную конскую голову, которую вырвал из рук нерасторопного багурчи.
Темучин потчевал мудреца, который сразу пришелся ему по душе своей открытой простотой и приветливостью. Гость ел очень мало и ничего, кроме чая и родниковой воды, не пил, хотя его угощали и вином, и медом, и кумысом. Он ни разу не сказал «нет», но очевидный отказ его отведать то или иное блюдо был сделан с таким тактом, что не вызывал никакой обиды. Лишь изощреннейшая культура могла выработать такие приемы вести застольную беседу, какими окончательно пленил владыку даос.
Обед закончился. Расторопные слуги быстро собрали остатки и, запалив тонкие курительные палочки — хучжи, оставили Темучина наедине с мудрецом. Умолкли тихие звуки невидимого хура[25]. И тогда хаган напрямик спросил Чан-чуня о том, что его больше всего волновало:
— Какое у тебя есть лекарство для вечной жизни и можешь ли ты мне его дать?
Остальное, невысказанное, Чан-чунь мгновенно прочитал в рысьих глазах властителя, которые остались, но не для даоса, такими же холодными и непроницаемыми, как всегда. В груди Темучина трепетали и замирали самые противоречивые чувства: смятение и радость, мольба и нетерпение, отчаяние и тревога.
«Каким же иссушающе сильным должно быть его разочарование», — подумал мудрец, но ответил незамедлительно с обезоруживающей прямотой:
— Есть средства хранить свою жизнь, но нет лекарства бессмертия.
— Твоя искренность похвальна, — помедлив, ответил хаган, не проявив, однако, ни тени неудовольствия. — Могу лишь сожалеть, что у меня нет такого советника, как ты. Все мне только лгали: христиане, лама-гелюн высшего посвящения и тантрический лама-йогадзари, парсы и даже другие даосы.
— Они не лгали, — мягко возразил Чан-чунь. — Заблуждались.
— Иди ко мне на службу, святой муж. Я дам тебе титул тайши и сделаю гур-хаганом[26].
— Я не служу богам, государь. Я ищу истину.
— Кто тебе мешает искать ее здесь?
— Войны, государь, — грустно улыбнулся мудрец. — Только ты один в состоянии навсегда покончить с ними! Сделай так, — он умоляюще прижал руку к сердцу, — и на земле вновь воцарится золотой век.
— Так не будет, — спокойно и ясно, как некогда ответил ему даос о лекарстве бессмертия, сказал Темучин. — Войны в природе человеческой, и никто не волен тут ничего изменить.
Чан-чунь понял, что надежды нет, и более не настаивал. Он только позволил себе выразить робкую надежду:
— По сторонам дорог разбросаны трупы, прохожие зажимают носы… Десять лет на десять тысяч ли движутся осадные орудия, но рано или поздно войска возвратятся и возродится мир!
В юрту долетел приглушенный расстоянием победный клич возвращавшихся с учений нукеров.
— Бурол! Бурол! — приветствовали они своего темника.
Темучин ухмыльнулся и пригласил гостя пересесть в хоймар — почетную северную сторону юрты.
— Ты согласишься дать мне совет, как укрепить свое здоровье? — спросил Темучин.
— Я некоторое время поживу здесь и понаблюдаю за тобой, государь.
— Тебе поставят белый хошлон рядом со мной, святой муж. — Темучин задумался. — А скажи, — спросил он, наматывая бороду на палец, — правда ли, что у даосов есть камень вечности по имени Дань?
— Ты имеешь в виду философский камень? — оживился Чан-чунь. — Это весьма тонкая материя, и каждый толкует ее по-своему. Школа, к которой принадлежу я, ищет сокровища в глубинах человеческой души. Мы понимаем под бессмертием обретение безмятежного спокойствия. И только.
— Это трудно?
— Очень, государь. Дао[27], которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Объяснить наши принципы на словах тоже нелегко. Где взять слова? Ведь безымянное есть начало неба и земли, а обладающее именем — мать всех вещей. Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну дао, а кто имеет страсти, видит его только в конечной форме. Те, кто толкуют о лекарстве бессмертия, живут страстями, поверь мне.
— Молись о моем долголетии, мудрый человек. — Хаган положил перед даосом перстень Хорезмшаха: — Когда я умру, это будет тебе памятью обо мне.
— Память уносят в сердце. — Чан-чунь вежливо коснулся груди и наклонил голову. — Какой необыкновенный камень!
— Шаманы называют его «яда» — вызывающий ветер и дождь.
— Тот, кто знает, не говорит, — меланхолично ответил мудрец словами философа Лаоцзы, — тот, кто говорит, не знает.
— А я назвал его отчигином — князем огня…
— Очень меткое название, — кивнул даос, любуясь винно-огненной игрой граней.
— Ты можешь сказать, когда я умру? — спросил хаган.
— Этого никто не может знать точно, — покачал головой Чан-чунь. — Покажи руку. — Он пощупал пульс и приблизил к глазам заскорузлую ладонь государя. Долго вглядывался в тайные знаки ее линий и наконец сказал: — У тебя еще есть время.
Властитель умер спустя пять лет.
Покончив с тангутским государством Си-Ся, хаган, как говорится в «Сокровенном сказании», в пятнадцатый день среднего месяца осени года Свиньи, соответствующего месяцу рамазана 624 года[28], покинул этот тленный мир.
Стал тенгри.
Обнял кустарник.
Три желания
Оранжевые сполохи взметнулись над снегами остро синевшего вдали хребта Аннапурны. Словно веление неба подхлестнуло маленький караван паломников. Погонщики, отец и сын из племени кхамба, резко принялись покалывать яков острыми палками. Подхлестнул вконец вымотавшуюся лошадь и сам хозяин — староста небольшой тибетской деревушки в долине Кайласы.
Всем хотелось засветло добраться до кедровника на горе богинь Мамо, где можно было укрыться от сырого, пронизывающего ветра, вскипятить перед сном на костре воду и, попивая чай, приправленный цзамбой[29] и буйволиным маслом, спокойно порассуждать о вечном круговороте жизни. Впрочем, староста Римпочен не слишком стремился утруждать себя заботами о высоких истинах мирового закона причин и следствий. Беды родной, заброшенной в котловине тибетских гор деревушки волновали его куда больше. Не проходило и года, чтобы она не подвергалась опустошительным набегам чужеземцев: непальцев, гуркхов из Сиккима, разбойников голоков и диких кочевников из монгольских степей. Но самые горькие беды приносили китайские солдаты. Они не только угоняли скот и подчистую забирали запасы продовольствия, но и увозили с собой молодых девушек и детей, которых продавали потом в рабство. Жизнь крестьян стала совершенно невыносимой. Сначала они попытались пожаловаться китайскому амбаню[30], но жалобщиков нещадно выпороли, а у старосты, предшественника Римпочена, содрали с рук кожу, отчего тот повредился в уме и не мог более исполнять обязанности главы деревенской общины. Оставалось только одно: покинуть деревню и уйти в горы, подальше от жадных чужеземцев. Но не так-то легко бросить родимую землю, где птицы вскормлены телами предков. Да и найдут ли они другую долину, где так же хорошо уродится ячмень и просо и будут тучнеть буйволы на летовках? Где так же будет сладок мед и целительны горные растения: лук, абрикос и крапива?