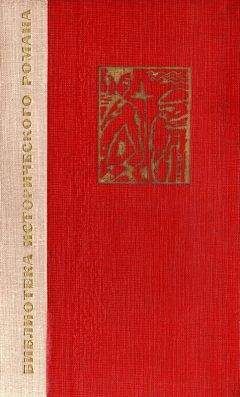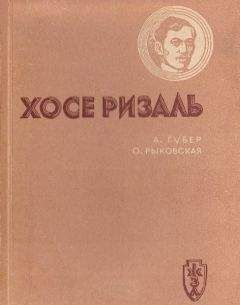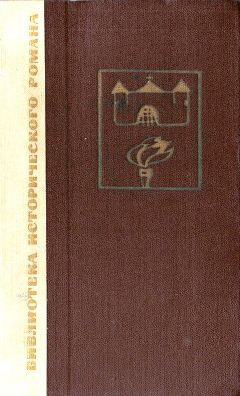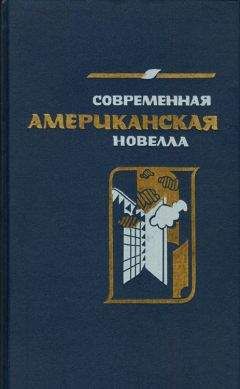Эфрен Абуэг - Современная филиппинская новелла (60-70 годы)
Вдруг набежавшая рябь словно состарила отражавшееся в воде лицо Эдьи. Оно рассыпалось на мелкие части и тут же вновь обрело прежнюю форму. А вопросы, все те же проклятые вопросы не отступили. И их надо было решать. До каких пор? Навсегда рабыней! До каких пор? Навсегда рабыней! Рабыней! Рабыней! Рабыней!
Эдья закрыла глаза и так стояла в воде некоторое время, как бы силясь избавиться от этих вопросов, сверливших ей мозг. Но они не оставляли ее, и что-то вынудило девушку снова открыть глаза и взглянуть на свое отражение в воде. Но привиделось ей лицо матери с бледными-бледными губами и печальными глазами. И гримасничающий Берто, его жирное тело. Злющее лицо мисс Караска. И старший брат Доменг. Она улыбнулась кому-то, бывшему далеко-далеко отсюда, и даже помахала призывно рукой. Но тут же испугалась возникших на миг лиц своих соплеменников аэта. Многих-многих аэта.
Эдья ополоснула водой лицо, и мокрые пряди волос упали ей на плечи. Подобно мыльной пене, вмиг исчезли, растворились все видения. Вздохнув глубоко, она снова взялась было за стирку. Но вдруг вскрикнула от неожиданности: нагруженной бельем лохани, которая еще минуту назад стояла неподалеку от нее, уже там не было. Предчувствуя сердцем беду, девушка беспокойно огляделась вокруг и тут заметила лохань вдалеке, на стремнине реки, в самом глубоком месте. И лохань, как назло, была доверху наполнена бельем и платьями ее хозяйки…
Преодолев минутное замешательство, Эдья быстро бросилась в реку, чтобы вплавь настичь злополучную лохань. Она была уверена, что сможет ее нагнать, потому что научилась здесь плавать. Но всякий раз, когда она уже, казалось, настигала ее, лохань словно бы кто-то быстро утаскивал у нее из-под носа. Тело ее будто стало тяжелей. И кто-то невидимый нашептывал ей, что вот-де только из-за ее небрежности и случилось это.
С большим трудом, медленно, временами переворачиваясь на спину, поплыла Эдья обратно к берегу. Пошатываясь, еле-еле передвигая ноги, вышла она из воды, а лохань уплывала тем временем все дальше и дальше. И хотя она еще никак не могла представить себе, что же теперь будет, постепенно какое-то новое ощущение — чувство облегчения начало овладевать ею по мере того, как лохань удалялась. Она вздохнула полной грудью. И словно освободилась от того, от чего давно должна была освободиться.
Лохань уже еле видна была на горизонте — не больше бутылочной пробки. В глазах Эдьи засверкали радостные искорки. Взгляд ее случайно упал на горы, что возвышались напротив, по ту сторону реки. Ей снова вспомнилось, что говорил об аэта, спустившихся с гор в долину, старший брат Доменг, и она будто наяву увидела своих соплеменников — горных жителей, корчевщиков леса. И почувствовала необыкновенный прилив сил.
Вирхилио Крисостомо
ВЬЕТНАМ НЕ ЗА МОРЯМИ
Перевод Г. Рачкова
…война многолика,
и в каждом ее лице — горе…
Вьетнам… Вьетнам…
Твой стон звучит в городах и селах,
твои слезы текут в реках и морях,
твой гнев жжет сердца твоих детей.
Я не слышу, о чем говорят, прощаясь, папа и мама. Папа обнимает маму и улыбается ей, как ребенку, а у мамы глаза кажутся пустыми, плечи ее трясутся. Сквозь захватанное нашими пальцами оконное стекло я в последний раз вижу папу перед его отъездом во Вьетнам. Для этого мне, семилетнему малышу, приходится стоять на цыпочках и, вцепившись слабыми пальцами в подоконник, тянуть изо всех сил шею и таращить глаза.
У меня затекли ноги. Я опустился на пятки и толкнул локтем Дэнни, своего старшего брата, уткнувшегося носом в окно.
— Дэнни… Дэнни! Почему плачет мама?
Но он даже не повернулся. Заглянув ему в лицо, я оторопел. Я впервые увидел, как Дэнни плачет. И кажется, в последний раз. Тогда я еще не понимал, что взрослые тоже могут плакать. Когда я сам реву, он говорит мне, что мужчина не должен хныкать. Вот мама — совсем другое дело: она женщина. Или наша сестра Салинг. Или наш младший братишка Литс. Или я сам. Мы еще маленькие. Плаксы. Салинг только девять лет. Мне семь. А Литсу и вовсе три годика. Но вот Дэнни — он не чета нам. Он уже кончает школу. Он уже большой. Почти взрослый.
Я оглянулся на Салинг и Литса. Они были тут же — играли на лестнице — со смехом карабкались по ступеням и спрыгивали вниз. Поднимались — спускались. Поднимались — спускались. Они забыли и о папе с мамой, и о нас.
Я потянул Дэнни за рубашку. Мне хотелось еще разик увидеть папу.
— Дэнни! Дэнни! Подними меня!
Но он снова не обратил на меня никакого внимания. Вынул платок и стал вытирать глаза.
— Почему ты плачешь? — пристал я к нему.
— Потому что уезжает папа. Уезжает во Вьетнам. Там он будет работать.
У него был такой голос, словно в горле ему что-то мешало. Я невольно сглотнул слюну.
— Ну а чего же ты ревешь?
Я снова встал на цыпочки и сквозь тусклое стекло увидел папу и маму. Мама расправляла на папе куртку, а он гладил ее по волосам.
— Теперь мы не скоро увидим папу. Он уезжает надолго.
— Почему? Разве Вьетнам далеко?
— Далеко… Очень далеко, — проговорил Дэнни, не отрывая взгляда от окна.
И вот мы видим: папа берет в правую руку чемодан, левой крепко обнимает маму за талию, и они оба постепенно, шаг за шагом, скрываются вдали…
В здании аэропорта стоял ужасный шум — шумели мои дядья и тетки, мои двоюродные братья и сестры; Салинг и Литс с визгом крутили огромный глобус в центре холла.
— Что, уезжает отец? — спросила Дэнни тетя Белен.
— Да, — тихо ответил он.
— Не робей, парень! — подбодрил его дядя Кардо.
— А где же самолет? — забеспокоилась тетя Геланг.
— Там, — ответил дядя Кардо и указал на дверь, возле которой толпились люди.
Я уже не помню, сколько заплатил дядя Кардо за такси, которое доставило нас в аэропорт. Но помню, как он сказал Дэнни, вроде бы в шутку:
— Ничего, Дэнни. Когда отец вернется, ты будешь расплачиваться долларами!
«Доллар»! Вот то слово, которое чаще других употребляли в разговорах взрослые с тех пор, как я впервые услышал от них о Вьетнаме. У нас в семье за завтраком речь непременно заходила о долларах.
— Во Вьетнаме, конечно, будет нелегко, — говаривал папа, — зато платить мне обещают долларами. Подумайте только: я стану зарабатывать втрое против тех грошей, что получаю здесь!
И он обычно добавлял:
— Пожалуй, я открою себе счет в банке. Счет в долларах! А то курс песо быстро падает. Падает с каждым годом.
А мама отвечала ему одно и то же:
— Но ведь там опасно. К чему нам доллары, если с тобой что-нибудь случится?
На это папа говорил ей со смехом:
— А ты не думай так — тогда ничего со мной не случится. Если все делать с умом — никогда не пропадешь. Если же без ума, то и в собственном доме от беды не убережешься. Моя матушка любила повторять мне, когда я еще только ухаживал за тобой: «Просто так и шишка не вскочит!»
При этих словах оба они смеялись. И разговор снова заходил о долларах.
Я помню многое из того, что они говорили, хотя я тогда еще не все понимал. Вот один из таких вечеров. Папа и мама сидят на диване. Глаза у них грустные. Мама говорит первой:
— Если бы ты не ушел с той работы…
Папа ее перебивает:
— Ах, оставь… Забудь об этом. Все это уже позади!
— Как я могу забыть? Ты ни в чем не был виноват, а тебя уволили!
— Что ж, не я первая жертва несправедливости, не я и последняя…
— Ты должен был добиться, чтобы тебя восстановили!
— А ради чего? Чтобы терпеть то, с чем я не могу смириться? Делать вид, что не замечаю всей этой подлости? Обманывать товарищей? Нет, такое не по мне!
— Зато ты бы был здесь, рядом с нами. И мы не волновались бы за тебя…
— Ты хочешь сказать, что я должен был пойти против совести, лишь бы только спасти свою шкуру?
— Ну, не совсем так… Я только…
— Пойми же: я еду во Вьетнам, чтобы служить делу Свободы. Да, там опасно. Но мы готовы пойти и на жертвы…
Когда разговор принимал такой оборот, мама наклоняла голову. Едва сдерживая рыдания, она приникала к папе, который ласково обнимал ее за плечи, бережно поднимал с дивана и уводил в спальню, плотно прикрыв за собою дверь — чтобы мы не слышали, о чем они там говорили…
У трапа самолета толпилось множество людей. Все они что-то кричали, махали руками. Издалека я не мог разглядеть, который из них папа — все они были в черных куртках и темных очках.
— Да вот же он! — закричала вдруг тетя Геланг, на плечах которой сидел Литс. — Помаши папе ручкой! Помаши!
Мы все замахали руками: и Дэнни, и Салинг, и наши двоюродные братья и сестры, наши дядья и тетки. Мы махали до тех пор, пока не убрали трап и не закрыли дверцу самолета. Потом раздался чудовищный, оглушающий рев — и гигантская птица двинулась с места. Сначала она осторожно поползла по бетонной дороге, потом заскользила все быстрее и быстрее, приподнялась над землей и взмыла ввысь. Сделала круг над аэродромом и стала удаляться, делаясь все меньше и меньше. И все это время мы продолжали стоять, не двигаясь с места. И хотя мы уже не видели папу, мы знали, что он там, внутри этой большой птицы, которая уносит его в далекий-далекий Вьетнам…