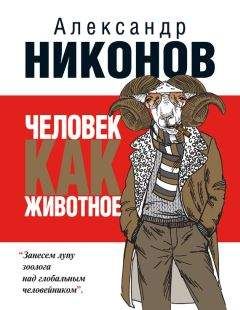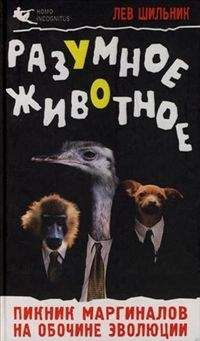Лилия Фонсека - Современная африканская новелла
О чем ты хочешь спросить, моя маленькая сестренка? А-а, тебе интересно, нашел ли я Мансу? Сам еще не знаю… Мои родичи просили рассказать обо всем, что произошло со мной в городе, и ты тоже просила. Я выкладываю вам все по порядку. Зачем же вы хотите слизать крем с пирога?
Ну так вот. Пошел я с ней танцевать. И так я пялил на нее глаза, что только и делал, что наступал ей на ноги. Точь-в-точь такая же она черная, как вы, как я, только волосы у нее длинные, рассыпаны по плечам, как у белой женщины. Я не дотрагивался до них, но по всему было видно, они мягкие что пух. А губы намалеваны красной краской — ни дать ни взять свежая рана. Платье обтягивало ее туго-натуго. И я танцевал с ней. Потом музыка смолкла, и я вернулся на свое место. Что уж она сказала своим подружкам, не знаю, только они так и залились смехом.
Вот тут-то и дошло до меня, что все они дурные женщины. И хоть сказал мне Дуайо, что после танца я согреюсь, мне стало еще холоднее. Словно меня окатили холодной водой. С болью в сердце думал я об этих женщинах. Неужто у них нет дома? Неужто нет у них любящих матерей? Боже милосердный! Все мы гнем спину за кусок хлеба, но, господи, добывать его таким трудом!
Потом я подумал о своей пропавшей сестре и на душе полегчало: пускай я и не разыскал ее, но она замужем за богатым человеком, ей живется хорошо и спокойно.
А тут снова заиграл оркестр, я пошел к их столику, решил опять пригласить ее потанцевать. Но она уже ушла с кем-то. За столиком остались сидеть только две женщины, и я пригласил одну из них. Она пошла со мной. Начали мы танцевать, она и спрашивает: правда ли, что я из племени фанте? Я говорю: правда. Больше мы не разговаривали. Когда музыка затихла, она попросила отвести ее к стойке, купить ей пива и сигарет. Я испугался: а как же деньги? Вдруг, мы как раз проходили под ярким светом, меня словно что-то толкнуло поглядеть ей в лицо. Сердце так и екнуло в груди.
«Послушай, женщина, так это и есть твоя работа?» — спрашиваю ее.
«Послушай, мужчина, о какой такой работе ты ведешь речь?» — тоже спрашивает. Я рассмеялся.
«Сама, что ли, не знаешь, о какой?» — снова спрашиваю.
«Да кто ты такой, что лезешь с эдакими вопросами? Слышишь? Кто ты такой? И да будет тебе известно: всякая работа есть работа. Кто ты такой, деревенщина проклятая?» — кричит она.
Я не на шутку перепугался. Со всех сторон на нас глядели. Я обнял ее за плечи, чтобы успокоить, но она сбросила мои руки.
«Манса! Манса! — говорю. — Или не признаешь меня?»
Она пристально поглядела на меня и рассмеялась. И смеялась долго-долго, как сумасшедшая, словно смех шел не из нутра ее, а из бездонной бочки.
«Видать, ты и впрямь мой братец, — говорит. — Вот так штука!»
О, вы плачете, моя матушка, и моя тетушка, и моя маленькая сестренка! Каково-то вам приходится, женщинам!
Но только о чем же теперь плакать? Меня послали в город разыскать пропавшего ребенка. Я нашел взрослую женщину.
Но не надо думать об этом.
Всякая работа есть работа. Так мне сказала Манса, и губы у нее были такие красные, словно все в запекшейся крови. Всякая работа есть работа… Не надо плакать. На рождество она приедет домой.
Ей-ей, не стоит об этом думать, братишка… Всякая работа есть работа… всякая… всякая!
Джордж АВУНОР-УИЛЬЯМС
(Гана)
ЧТОБЫ КУПИТЬ МАИСА
Перевод с английского Л. Васильевой
Малыш опять закашлял. Из маленькой груди вырывались сухие, резкие хрипы. Потом он зашелся плачем, но плакал недолго, потому что у него уже не было сил. Женщина приподнялась на постели и протянула руку в изголовье — там у нее лежала трава для малыша, завернутая в голубой лоскут, и косточка хамелеона. Мать провела косточкой по груди ребенка ровно семь раз и приподняла малыша, чтобы вытащить из-под него мокрые тряпки. Потом она снова запеленала его, и ребенок заснул; дышал он часто и прерывисто.
Но женщина не сияла. Она задула огонь — цены на керосин опять поднялись — и легла на спину. Кое-где свет нового дня уже пробивался сквозь тростниковую крышу, и женщина принялась считать эти светлые точки, похожие на звезды в ночном небе. Прокричал третий петух. Третьим всегда кричал петух старухи Шоме, ее соседки. И почему он вечно кричал после всех? Может, и вправду старая Шоме колдунья, как о ней говорят?
Женщина поднялась, открыла дверь. Небо посветлело на востоке. Пусть ребенок еще поспит. Сегодня базарный день в Кета. Маиса в доме почти не осталось, ей непременно нужно съездить на рынок и продать циновки.
«Малыш болен, но я должна поехать на рынок. Я задолжала бакалейщику и старухе Агбодо за рыбу. И у меня совсем нет маиса».
Лодка отчаливает около шести утра, перед самым восходом солнца. Она сварила ребенку кашу из остатков маиса и, стараясь не разбудить малыша, вынесла его из хижины. Она осторожно умыла ребенка и вытерла ему лицо, а когда стала мыть ему голову, малыш проснулся. Он посмотрел на мать вялым, безразличным взглядом, потом губы у него дрогнули, на них появилась какая-то недетская улыбка и тут же угасла. Глаза опять смотрели устало и безразлично, и головка упала на грудь матери.
— Мой дружок, мой маленький хозяин, ты опять всю ночь кашлял. Я еду на рынок сегодня, ты поедешь со мной? — Но ребенок не отвечал, ему было всего восемь месяцев. — Так мы поедем? Я куплю тебе башмачки и ту лошадку, что мы видели в большом магазине. Я знаю, она тебе понравится. Мой маленький хозяин поедет на лошади — цок-цок, цок-цок, да?
Она легонько потрепала малыша по щеке и заглянула ему в глаза.
— Ну а теперь давай оденем рубашечку, ту, что мы с тобой сшили. Ты не забыл про нее?
Рубашку она сшила вчера, после того как кончила плести циновки, сшила из старого куска ситца, который случайно нашла, разбирая старые вещи.
Женщина переодела ребенка, но, как только она подняла его, чтобы привязать к себе за спину, он опять закашлялся. От этого резкого, сухого кашля на глазах малыша выступили слезы, а сердце матери больно сжалось.
Торговец травами сказал, что его лекарство обязательно вылечит ребенка. Ей пришлось отдать торговцу семь шиллингов и семь пенсов — все деньги, которые она выручила накануне на базаре, а также белого петуха, за которого она еще не расплатилась. Вот уже третий месяц ребенка мучают кашель и рвота. Она возила его в деревню к своей матери в Тзиаме, и там ей сказали, что дух умершего мужа хочет, чтобы она принесла жертву семиглазому глиняному богу за деревней Голова Духа. Женщина отнесла, что нашлось в доме, но кашель у ребенка не проходил. И вот сегодня она должна ехать на рынок.
Женщина вошла в хижину и положила ребенка на постель — циновку, покрытую тряпьем. Здесь же лежали две мокрые пеленки, которые она вытащила из-под него, когда пропел третий петух. Женщина пересчитала циновки — их было восемнадцать, потом туго связала их веревкой. Малыш перестал кашлять. Мать положила ребенка на простыню из плотной материи, закинула его за спину, а узлы простыни натуго связала на груди. Циновки она водрузила себе на голову. Перед уходом она подперла палкой бамбуковую дверь и налила воды в миску для уток. «Я вернусь только вечером, и они, наверное, здорово проголодаются».
«Восемнадцать циновок по четыре пенса. Если я продам все, у меня будет… Продам три циновки — получу один шиллинг, еще три — еще один шиллинг; за шесть циновок я получу два шиллинга, если продам еще шесть — еще два шиллинга. Когда я продам двенадцать циновок, у меня останется одна, две, три, еще одна и еще две — шесть циновок, за которые я выручу два шиллинга, А всего шесть шиллингов — за восемнадцать циновок.
Один шиллинг нужно будет заплатить лодочнику. Атсу никогда не берет денег за ребенка. Он очень добрый, Шесть пенсов я потрачу на еду. Ребенок должен поесть, и я должна поесть, и уток надо чем-то кормить до следующего базарного дня».
На берегу залива уже ждали жители деревни. Женщина поздоровалась со всеми.
— Ты сегодня поздно.
— Да…
— Ребенок нездоров?
— Нет, он здоров. Но знаете, иногда он все плачет и плачет и ничего не ест. И мне столько приходится уговаривать его, хотя он совсем не капризный.
— Он спит?
— Да, уснул. Надеюсь, рынок будет хороший.
— Надо молить богов, чтобы сегодня был хороший рынок.
Лодочник собирался отчаливать. Он закричал так, чтобы его было слышно в деревне:
— Уходим, уходим! Лодка отправляется! Кто еще с нами?
Он подождал немного, потом отвязал якорную веревку от коряги в воде и отчалил. Они проплыли около пятидесяти ярдов, помощник Атсу не успел еще поднять паруса, когда с берега закричали:
— Я тоже еду, папаша Атсу, я тоже еду!
Все повернули головы к берегу. Это кричала Адзова. Она, как всегда, опоздала.
— Вечно она опаздывает, эта Адзова. Какие у нее там дела, что она всегда опаздывает?