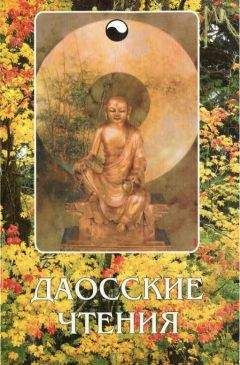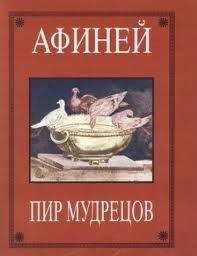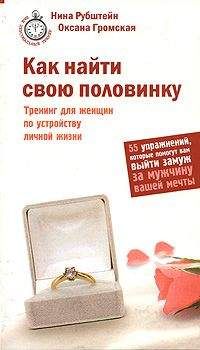Геннадий Прашкевич - Русский хор
Специально для Алёши пригласили в дом цирюльника, он ножницы и расчески разложил на столе, выставил снадобья в темных флаконах, долго вздыхал, озирал Алёшу, что с ним сподручнее сделать. Кригс-комиссар, заметив сомнения, указал просто: чтобы похож на себя не был. Цирюльник нисколько не удивился, подрезал Алёше длинные волосы, что-то зачесал. Но и сейчас, после обработки ножницами и расческами, вид Алёшин заставлял некоторых гостей вздергивать брови под самые парики. Однажды услышал: «Ты покажи своего недоросля графу Толстому, может, ему для дела понадобится».
Денщики кригс-комиссара с томилинским недорослем не разговаривали, получили, наверное, такой наказ. Дичились, обходили стороной, поэтому все свободное время Алёша старательно учил Морской устав, парусную книгу, даже призывал Ипатича будить его, если начнет засыпать. Ипатич стоял рядом, смирно слушал, потом начинал клонить голову.
«Ты дремлешь, Ипатич?»
«Нет, не дремлю, я на сапоги смотрю».
А при случае сам научился заглядывать в книги.
Алёша не противился такому, даже интересно, научится ли дядька грамоте.
Рябой, как дрозд, Ипатич неуклюже переворачивал пальцем страницы, произносил вслух увиденное. У него получалось. Алёша слушал в кресле, закинув руки за голову, как любила тетенька.
Первое время кригс-комиссар не пускал Алёшу гулять, только иногда поздними вечерами да в сильный дождь. Беспокоился, что увидят, разговоров не оберешься.
«Разве у меня две головы?»
«На мой взгляд, даже хуже».
А почему, не объяснял. И запрещал надевать парик, хотя парик Алёше привезли чуть ли не в первый день — в буклях, припудренный. Он в зеркале увидел: его удлиненное лицо под париком выглядело возвышенным, в глазах музыка отражалась — волнами, как низкая Нева под белесым небом.
«В полк раздумал тебя сдавать, — пришел к решению кригс-комиссар. — Преображенцы и семеновцы рослые, а ты не совсем вышел ростом, лучше отдам в матрозы. Подальше от глаз».
«Да почему подальше?»
«Забудь! Я знаю. И умирись».
«Да как умириться, если не знаю?»
«Книги читай. Вот умная книга. — Кригс-комиссар выкладывал на стол большие переплетенные листы. — Или изучай статуи марморовые. На днях такую купил, каких у светлейшего князя нет. Совсем марморовая Венус, старинная, привезена из дальнего Рима. Уплатил под нее тысячу ефимков. — Поморгал, явно сам не поверил своим словам. — Хочу светлейшему передать, князь Меншиков оценит. У него вдоволь статуй, но совсем не такие, как моя. — И не выдерживал, показывал недорослю, как можно в Парадизе иметь хорошую выгоду. — Вот за старинную Венус, если по правде, уплатил двести ефимков, но вид у нее такой, что светлейший тысячу даст. Светлейшему в радость, а я в поездках по конским ярмаркам растрачиваю премного».
Сдав в приказ недорослей и лошадей, кригс-комиссар отдыхал.
Вечерами деятельно курил трубку. Кафтан новый, немного тесный, но огорчало господина Благова не это, а слухи с флота. Там больных и умерших нынче много. Тебя, Алёша, определю во флот, ты привычен к чистому, других будешь учить. Линьком и словом. Я знаю флот. Сам чуть не погиб, когда большой дристун напал на русскую эскадру на море Азовском. Для освежения кораблей не успевали людей свозить на берег. Матрозов и офицеров более тогда теряли, чем в стычках с чужими флотами. Бросали тела в воду, балласта не напасешься. Кригс-комиссар шумно вздыхал. Чувствовалось, что помнит многое и многих. Знал, похоже, и тех, кто когда-то еще потешными маршировали из Преображенского на Воробьевы горы, строили Прешпурх, ломали Кожуховский поход, а потом оказались под Азовом и Нарвой. Называл имена, но Алёше они ничего не говорили. Вот помещика Кривоносова помнит, а Ипат Муханов или Иван и Наум Сенявины — нет, про таких не слышал. Кригс-комиссар укоризненно пускал изо рта синий дым, обещал: «Стремись встать с ними вровень. Премного старайся. Только сначала пошлю тебя в другую страну, сходство снять».
Совсем достал этим сходством.
24.
А Невский прешпект оказался просто аллеей, вымощенной камнем.
Слева и справа — многие рощицы и лужайки. Пленные шведы удачно и правильно уложили обтесанные камни, теперь сами же и подметали по субботам. Алёша из закрытой пролетки (за этим строго следил кригс-комиссар) рассматривал Парадиз, дивился: в переулках темно и грязно, как в Нижних Пердунах, зато по островам — Адмиралтейство с корабликом, и царский летний дворец, и Биржа, и почтовый двор, а дальше на Васильевском — дом светлейшего князя Меншикова. Каналы, церкви, дома на сваях, цейхгаузы. Вдруг над набережной фейерверк, тут с ума сойти можно, как чудно становится в душе и в небе, как наплывает, как взрывается нежная музыка, теснятся человеческие голоса.
Рай земной, истинный Парадиз.
Правда, как ни старались плотники и каменщики, сырость и переменные ветры брали свое. В доме капало с потолков, под капель подставляли тазики. Весело звенело в углах, добавляя музыки. Денщики ленились, заметали мусор в углы, без спросу убегали смотреть фейерверки, парусные и гребные суда. А вот Алёша предпочитал церковь Анны Пророчицы на Литейном — слушал хор.
Кригс-комиссар напоминал:
«На глаза людям не появляйся».
«Да почему?» — не понимал Алёша.
«А ты в зеркало, ты в зеркало посмотрись».
И ничего не объяснял больше кригс-комиссар, ждал чего-то.
Наконец дождался. Постучал деревянной ногой в пол, развел руками.
«Завтра на ассамблее приказано быть. С недорослями, отобранными для науки. Чтобы привыкали к истинному обращению, не дичились, умели показывать себя людям. Отговориться нельзя, не выглядишь ты болезным, как утверждала в Томилине твоя тетенька. Даже наоборот. — Озирал Алёшу испытующе. — Волосы зачешешь вперед. От тебя зависит, как себя подашь».
Алёша кивал, вспоминал слова француза Анри.
Ассамблея, вспоминал, это большое-большое шумство.
После обедни в соборе Святыя Троицы поднимают шелковый желтый флаг с изображением двуглавого орла, держащего в когтях четыре моря — Белое, Балтийское, Черное и Каспийское, громко стреляют пушки с бастионов Петропавловской крепости, гостей созывают барабанным боем. Еще кавалер Анри Давид немало говорил про страсти. Латинский дух кипел в Анри, смущал тетеньку. Сейчас кавалер, наверное, в полку каком ружейному артикулу учится, а в Алёшиной голове все, как прежде, звучали пленительные слова. «Вся кипящая похоть в лице его зрилась…» Этот ладный Матрёшин зад. «Как угль горящий все оно краснело…» Ни слова не забыл. Как низкий белый туман над рекой Кукуманом. «Руки ей давил, щупал и все тело…» А ведь Анри больше говорил про знаменную нотацию, которая у русских будто бы темна сама по себе. Знак греческой буквы фиты… параклит, утешитель… «Уж как рыбу мы ловили по сухим по берегам…» Чудное, светлое за этим слышалось. «По сухим по берегам — по анбарам, по клетям…» Дальше совсем волшебное. «А у дядюшки Петра мы поймали осетра…» Все тут сразу — и рондо, и параклит, и мотет. Алёша все помнил, на марморных Венус кригс-комиссара смотрел с мучением, как на поротую Матрёшу в Томилине. Тянуло руку положить на марморовую грудь, но пусть это останется для денщиков.
«Ассамблея не затем, чтобы только козлом прыгать по зале, — внимательно оглядывая Алёшу, объяснил кригс-комиссар. — Там говорят о деле».
Алёша понятливо кивал. Он и об этом от француза Анри слышал.
Прыгают под музыку, а в промежутках о деле говорят. Или наоборот.
Обычная музыка на ассамблее — трубы, фаготы, гобои, литавры, но кавалер Анри Давид упоминал, что некоторые вельможи имеют свою музыку. У таких кроме фортепиано звучат скрипки, альты, виолончели, а с ними контрабас, флейты, валторны. Дух захватывало, как хотелось услышать.
«В зале устроишься несколько в стороне, — негромко указал кригс-комиссар. — Твое дело — вести себя смирно. Укажу удобный угол, там пересидишь, не вылазь людям на глаза, не надо. Я сам устрою твои дела, а ты молчи, молчи, голову опускай, чтобы лица не видели».
Алёша молча кивал. Волновался, как в дороге к Парадизу.
И все равно был ошеломлен, ослеп, оглушило жаром, запахом пота.
Все смешалось перед глазами, позже даже Ипатичу толком пересказать не мог.
Низкие крашеные потолки. Много-много восковых свечей. Люди в лентах, париках, широкие юбки, огромная музыка. Голоса — как нечто единое. Девки чудесные с вплывающими в сердце ангельскими голосами, такие громко не позовут во двор курочку к обеду зарезать. Дамы в круглых юбках, такая пошла бы Марье Никитишне — широкая, на версальский манер. Румяна на щеках, каждая дама кудрява. В одной зале танцевали, подпрыгивали, выделывали коленца — каприоли, в другой играли в шахматы, в шашки, вступали в резонеманы — рассуждения, в третьей на столах лежали трубки с деревянными спичками, табак в кисетах. А стену самой большой залы украшал портрет государя. И вот чудо! Вместо привычных руин, замков, чудесной заброшенной архитектуры, как на портрете Фёдора Никитича в деревне Томилино, здесь — волнующееся море, на котором белели паруса и поднимались облака над головой государя.