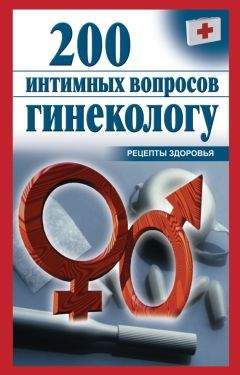Карой Сакони - Дивное лето (сборник рассказов)
— Я уже начинал дремать, — продолжал свой рассказ Ф., — когда отец сказал: — Надо же, Йожи, как вам повезло с патрулем… — Да, — отвечал брат, — я уж было совсем расстроился, что не удастся выбраться. — Все благодаря тому дезертиру, — сказал веснушчатый. — Дезертиру? — переспросил отец. — Ну да, — подтвердил солдат с напомаженными волосами и пояснил: — Из казармы сбежал один новичок, вот мы и ищем его. — Да не сбежал он вовсе, — сказал веснушчатый, — просто он еще позавчера получил увольнительную и до сих пор не вернулся. — Э, черт, — посерьезнел отец, ведь он, как бывший солдат, знал, чем это может кончиться. — Дело-то нешуточное! — Какие уж тут шутки, — сказал Йожи, — только не губить же нам сочельник на поиски дезертира, лучше домой завернуть. Потом доложим, что не нашли. — Дурень он, — отозвался напомаженный, — к невесте подался, в город, Та наверняка начала упрашивать, он и раскис… — Глупо, конечно, — сказал веснушчатый. Все немного помолчали, я сразу же забыл о сне, мне хотелось побольше узнать о случившемся. Голубоглазый солдат до сих пор не произнес ни слова, но тут отодвинул стакан и проговорил вроде как про себя: — Такое с каждым может случиться. — А-а, — сказал вдруг Йожи, — давайте-ка лучше попробуем эти замечательные пирожные. — Ешьте, ешьте, — принялась угощать и мама, — не стесняйтесь, у меня на кухне еще есть, сейчас маковый рулет нарежу. — Это вино, — спросил напомаженный, — случайно не толнайское? — А как же, — ответил отец, — толнайское, из Сексарда[3]. Сексардское красное. — Моя родина. — Солдат поднял стакан и, глядя на свет, залюбовался рубиновым напитком. — Но как же он не вернулся? — неожиданно спросил я… — Кто? — взглянул на меня Йожи. — Да тот, о ком вы говорили. — Ах, этот, — сказал брат, — поначалу-то он еще мог возвратиться, а потом его объявили дезертиром и назначили розыск. — Мы ему зла не желаем, — произнес веснушчатый и обнял Йожи за плечи, — правда, не желаем, зачем нам портить ему рождественскую ночь. — Праздник любви, — сказал голубоглазый; он не пил, не ел, только сидел у стола, уронив на колени руки. — Сексардское красное, — повторил тот, что был родом из Толны, — эх, развесели-ка своего сына! — И он залпом выпил. — Смотри, — предостерег Йожи, — не хвати лишнего. — По мне не заметят. — Оно конечно, — сказал отец, — по все же поосторожнее, как бы не было беды. — А если его поймают, — спросил я, — что с ним сделают? — Брат пожал плечами, потом тихо проговорил: — Расстреляют. — Расстреляют?! — ужаснулся я. — А то что ж, война ведь! — Но если он только хотел провести дома праздники? — Все равно, — сказал Йожи, — это никого не интересует. Дезертир, и точка.
— Вот так просто возьмут и расстреляют? — никак не мог я поверить. — Да нет, не просто, — ответил брат, — отдадут под трибунал, но там особенно не церемонятся. — Построят взвод на казарменном дворе, — вступил веснушчатый, — в каре, барабанная дробь, и — пли!.. — Но он же никому не сделал ничего плохого! — настаивал я, — И не враг, а свой! — Сказали, что прохвост он, — горько усмехнулся тихий солдат, — я его не знал, так что не могу судить, знаю одно — с каждым из нас такое может случиться, — Ну нет, — предостерегающе сказал отец, — ты уж, Йожи, да и вы все, ребята, будьте осторожны, не попадите в беду из-за какой-нибудь глупости… — Ну а если ему не хотелось возвращаться? — упорствовал я. Йожи и солдаты посмотрели на меня: — Иногда и нам не хочется, да нужно. — Приказы нужно выполнять, — грустно сказал отец, — вы уж, ребята, поосторожней.
— Стало тихо, — продолжал Ф., — говорить ни о чем не хотелось. У всех как-то испортилось настроение.
— А хорошо все-таки, — тихо произнесла наконец мама, — как хорошо, что мы собрались сегодня вот так, все вместе. Правда, отец? — Но папа сидел понурившись и ничего не отвечал. Было рождество, мы сидели в натопленной комнате, на улице скользко, морозно, а у нас на белой скатерти пирожные, красное вино в стаканах, полно яблок, орехов, и пахнет елкой, и все невольно придвинулись друг к другу, хотелось чувствовать, что ты не один. Но у меня никак не шел из головы тот дезертир. — А если б вы его поймали, — спросил я, — вы повели бы его в часть, чтобы его расстреляли? — Мы повели бы не для того, чтобы его расстреляли, — обиженно ответил вместо Йожи веснушчатый, — а потому что такой приказ, — Да не поймаем мы, — сказал брат. — Хорошо бы как-нибудь сообщить ему, чтобы он спрятался! — продолжал я, чувствуя, что нужно же как-то ему помочь. — Не говори глупостей. — Йожи снисходительно улыбнулся. — Куда он может спрятаться? — Ну, куда-нибудь, где он будет в безопасности. — Никуда он не денется, его повсюду найдут, — сказал напомаженный и выпил. — Всюду-всюду? — не унимался я. — Ну конечно, всюду, — недовольно ответил отец, он знал армейские порядки. — Днем раньше, днем позже, но найдут, — подтвердил брат, — нет такого места, где бы он мог укрыться.
— Так, значит, ему уже не спастись, его наверняка расстреляют? — испуганно спросил я. — Довольно об этом, хватит, — взмолился Йожи. — Рождество все-таки.
— И впрямь, было рождество, — продолжал Ф., заканчивая свой рассказ, — никогда не забуду, это было рождество. Только рождественская елка стала вдруг просто деревом, маленькой, плохонькой елочкой в тускло освещенном углу. И печка начала остывать, комната наполнилась чадом, а белая скатерть помялась. В ее складках накопилась скорлупа от орехов, обкусанные яблочные огрызки. Остальные еще беседовали, еще находили темы для разговора, чокались, иногда смеялись. А я боялся. Я знал, что когда-нибудь стану взрослым. Светало, впереди было еще два дня праздника. Но у меня в голове вертелась только одна мысль, о том, что когда-нибудь, пусть не скоро, может случиться, что я тоже не подчинюсь. Невольно или потому что не смогу подчиниться. Как же тогда — мне тоже будет некуда деться?
1964
Маша
Ее последней ролью была Маша в «Чайке». Это было хорошо. Ах, как хорошо! Играла, правда, она в провинции, в небольшом городке, но — Машу! В длинном, до щиколоток, черном платье, туго охватывающем талию. В невысоких ботинках на шнурках. Черный венец волос, бледное лицо, большие карие глаза. Это было по-настоящему хорошо. (Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном? Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна.) Хотя тогда-то еще это было не совсем правдой. Во всяком случае, по вечерам она была счастлива. Думала: все же выпала мне такая удача, хоть напоследок, да выпала. Она встретилась с Машей, Маша встретилась с нею. Не персонаж Чехова играла она, а самое себя. Недаром в областной газете писали, что «созданный ею образ весьма убедителен».
Муж на премьеру не приехал, не приехал и на следующие спектакли. Прислал телеграмму, да и то с опозданием. На другой день после премьеры позвонил по междугородному в театр. Не сердись, Агнеш, я думал подскочить на машине, но тут предстояло делать кесарево сечение, все шло к тому, нельзя было оставить больницу. Как премьера? Хорошо? Ну, очень рад. У нас тут полно работы. Представь, Маурер впутался в какую-то историю, и, возможно, меня назначат на его место — ну, да об этом не по телефону. Потом, дома. Когда ты приедешь? Приезжай в дни, когда не играешь! Мне очень недостает тебя! Сколько раз в неделю идет пьеса? А, черт, у тебя все время распылено будет!
— Я люблю Константина… — Кажется, так и сказала она в телефон.
Муж замолчал, потом, через несколько секунд, спросил:
— Не понимаю. Что ты сказала?
— Не могу я по-другому объяснить. Но Константина, это по роли так, нет, нет, никого, не человека, ах, нет, нельзя объяснить. Знаешь, это прекрасно. Да не пугайся же, ах ты бедняжка! Просто я нашла наконец, раз в жизни нашла что-то такое, что люблю, что хорошо… Ах ты, боже мой, ну совсем не могу объяснить…
— Мне кажется, я тебя понимаю, — неуверенно произнес муж. — Дома расскажешь. Но теперь мне пора кончать. Агнеш? Ты слышишь?.. Алло, Агнеш!
— Я попрощалась. До свиданья.
— Господи, ты ведь знаешь, что мне надо спешить!
— Все в порядке, — ответила Агнеш. — До свиданья.
Щелчок в трубке. «Никогда я не смогу объяснить это Тамашу, — думала она. — Я останусь одна, уж это наверное». Но тогда еще было легко, тогда еще каждый вечер возникало бледное лицо, черный венец волос — Маша.
Возможно, Тамаш и вправду должен был делать кесарево сечение и все остальное. Но не приехал он не только из-за этого.
— Видишь ли, — сказал как-то Тамаш (Агнеш тогда уже долгое время не получала в Будапеште ролей), видишь ли, это надо обдумать. Вовсе не обязательно, что руководство имеет зуб против тебя. А ну как дело в тебе? — Во мне? В каком же смысле? — Если ты хорошо чувствуешь себя в театре, оставайся, я не против, отнюдь. — Нет, я совсем не чувствую там себя хорошо. Что бы ты сказал, если бы тебе пришлось просто являться в больницу, по ничего там не делать? — Помимо всего прочего, я задумался бы и над тем, способен ли по-прежнему выполнять порученное мне дело. — Что ты говоришь?! — Ты не должна сердиться. Я говорю откровенно, именно потому, что люблю тебя. Такое положение очень унизительно. Ты останешься дома, и баста! Слава богу, на нужду нам жаловаться не приходится. — Остаться дома? Но ведь я актриса! — Ну, конечно, дорогая, но еще и моя жена. И, думаю, прежде всего — моя жена… То есть, я хочу сказать, что вовсе не приму трагически, если ты впредь будешь моей женой, и только…