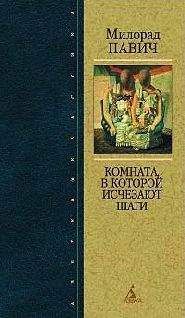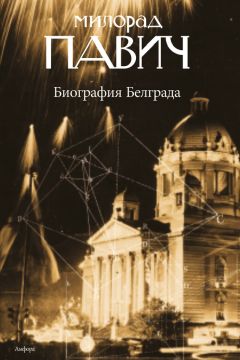Василий Шукшин - Письмо

Обзор книги Василий Шукшин - Письмо
Василий Шукшин
Письмо
Старухе Кандауровой приснился сон: молится будто бы она богу, усердно молится, а – пустому углу: иконы-то в углу нет. И вот молится она, а сама думает: «Да где же у меня бог-то?»
Проснулась в страхе, до утра больше не заснула, обдумывала сон. Страшный сон. К чему?.. Не с дочерью ли чего? Дочь старухина, младшая, жила в городе, работала в хорошем месте, продавцом. Она славная, дочь, всей родне слала посылки: кофточки импортные, шали, даже машины стиральные. Не за так, конечно, деньги ей, конечно, высылали, но… Иди нынче допросись и за деньги-то купить: все некогда им, вечно они там заняты. А эта находила время… Нет, она хорошая, Катерина, только с мужем неважно живут. Черт его знает, что за мужик попался: приедет – молчит целыми днями… Костлявый какой-то. Все думает чего-то, газетами без конца шуршит, зевает. Ни поговорить, ни пошутить… Как лесина сухая. Дочь жаловалась на него матери.
Утром старуха собралась и пошла к Ильичихе. Ильичиха разгадывала сны.
– И-и, матушка, – запела богомольная Ильичиха, – дак, а у тя иконка-то есть ли?
– Есть. Она, правда, в шифонере…
– Вы-ынь, вынь, матушка, грех. Чего же ее впотьмах держать? Вынь да повесь, куда положено. Как же ты так?..
– Да жду своих, Катьку-то, сулилась… А зять-то партейный, ну-ко да коситься начнет.
– Плюнь! Кому како дело? Нонче нет такого закону…
– Да закону-то нет, а… И так-то живут неважно, а тут я ишо…
– Не гневи бога, Кузьмовна, не гневи. Кому како дело? У меня их вон сколь висит, кому како дело?! А ты ее в шифонер запятила! Бесстыдница.
– Да не ездит никто, оно и дела никому нет, – с сердцем сказала Кузьмовна. – Не все так-то живут. Ко мне люди ездиют, я не одинокая.
– Знамо, татаркой-то не живу, – обиделась Ильичиха. – К ей люди ездиют!.. Гляди-ко, наездили: раз в год приедут, так она из-за этого икону в шкап запятила! Ни стыда, ни совести у людей.
– Ты не кричи, чего ты рот-то разинула? Чего ты всех созываешь-то? Припадошная. Кто тебе виноватый, что не рожала? А теперь зло берет. Надо было рожать.
– Да вы вон нарожали их, а толку-то?
– Как это «толку»? Вот те раз! Да у меня же смысел был, я их ростила да учила старалась… А ты-то зачем жила? Прокуковала весь свой век, а теперь злится. Нечего и злиться теперь.
– Это вы – наплодили их да поете ходите: «Ванька не пишет, Колька денег не шлет, окаянный…» Зачем тада и рожать? Лучше не рожать – не гневить бога после. Не было у меня условиев, я и не рожала. Не все подкулачники-то были… Куркули.
– Знамо, лодыри, они куркулями никогда не живут. Где эт ты куркулей-то увидела?
– Да вас же на волосок только не раскулачили в двадцать девятом годе! Ты забыла? Какая у тебя память-то дырявая. Мой же брат, Аркашка, заступился за вас. Забыла? А кому потом ваш отец три овечки ночью пригнал? Забыла? Короткая же у тебя память!
– А ты че гордисся, что в бедности жила? Ведь нам в двадцать втором годе землю-то всем одинаково дали. А к двадцать девятому – они уж опять бедняки! Лодыри! Ведь вы уж бедняки-то советские сделались, к коллективизации-то нам землю-то поровну всем давали, на едока.
– А вы!..
– А вы!..
Поругались старушки. И ведь вот дурная деревенская привычка: двое поругаются, а всю родню с обеих сторон сюда же пришьют. Никак не могут без этого! Всех помянут и всех враз сделают плохими – и живых, и покойных, всех.
Домой старуха Кандаурова шла расстроенная. Болела душа за Катьку. Неладно у нее, неладно – сердце чует.
Вечером старуха села писать письмо дочери. Решила написать большое письмо, поучительное.
"Добрый день, дочь Катя, а также зять Николай Васильич и ваши детки, Коля и Светычка, внучатычки мои ненаглядныи. Ну, када жа вы приедете, я уж все глазыньки проглядела – все гляжу на дорогу: вот, может, покажутся, вот покажутся. Но нет, не видать. Катя, доченька, видела я этой ночий худой сон. Я не стану его описывать, там и описывать-то нечего, но сон шибко плохой. Вот задумылась: может, у вас чего-нибудь? Ты, Катерина, маленько не умеешь жить. А станешь учить вас, вы обижаитись. А чего же обижатца. Надо, наоборот, мол, спасибо, мама, что дала добрый совет. Мы тоже када-то росли у отца с матерей, тоже, бывало, не слушались ихного совета, а потом жалели, но было поздно.
Ты подскажи свому мужу, чтоб он был маленько поразговорчивей, поласковей. А то они… Ты скажи так: Коля, что ж ты, идрена мать, букой-то живешь? Ты сядь, мол, поговори со мной, расскажи чего-нибудь, А то, скажи, спать поврозь буду!"
Старушка задумалась, глядя в окно. Вечерело. Где-то играли на гармошке. Старуха вспомнила себя, молодую, своего нелюбимого мужа… Муж ее, Кандауров Иван, был мужик работящий, честный, но бука несусветная. За всю женатую жизнь он всего два или три раза приласкал жену. Не обижал, нет, но и не замечал. Старухе жалко стало себя, свою жизнь…
«Если б я послушалась тада свою мать, я б сроду не пошла за твово отца. Я тоже за свою жизнь ласки не знала. Но тада такая жизнь была: вроде не до ласки, одна работа на уме. А если так-то разобраться-то – пошто? Ну, работа работой, а человек же не каменный. Да еслив его приласкать, он в три раза больше сделает. Любая животная любит ласку, а человек – тем боле. Ты, скажи, сам угрюмый ходишь, и, на тебя глядя, сын тоже станет задумыватца. Они, маленькие-то, все на отца глядят: как отец, так и они – походить стараютца. Да я и буду, скажи, с вами, с такими-то… Мне, мол, что, самой с собой тада остаетца разговаривать? Да что уж это за мысли такие!– день-деньской думать и думать… Ты, скажи, ослобони маленько голову-то для семьи. Чего думать-то, об чем? Ладно бы, думал, думал – додумался: большим начальником сделался, а то так – сбоку припека. Чего уж тада и утруждать ее, головушку-то, еслив она не приспособлена для этого дела. Нечего ее и утруждать. Ты, скажи, будешь думать, а я буду возле тебя сидеть – в глаза тебе заглядывать? Да пошел ты от меня подальше, сыч! Я, скажи, не кривая, не горбатая – сидеть-то возле тебя. Я, мол, вон счас приоденусь да на танцыи завьюсь, будешь знать. Да сударчика себе найду. Скажи, скажи ему так, скажи. А полезет с кулаками, ты – в милицию: ему сразу прижмут хвост. Это ничего, что он сам в милиции, ему тоже прижмут. С имя нынче не чикаютца, это не старое время. Это раньше, бывало… Тьфу! И писать-то про то неохота! Нет, скажи, ты у меня живо повеселеешь, столб грустный. Ты меня за две улицы стречатъ будешь с работы. А то моду взяли! Нет, ты у нас будешь разговорчивый! А не изменишь свой гыранитный характер – вон тебе дверь, выметайся! Иди на все четыре стороны, читай газеты. И молчи, сколько влезет. Попинывали мы таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц сроку: еслив не исправитца, гони в три шеи! Пусть летит без оглядки, ступеньки щитает!»
Старуха вдруг представила, что письмо это читает ее задумчивый зять… Усмехнулась и стала смотреть в окно. Гармонь все играла, хорошо играла. И ей подпевал негромко незнакомый женский голос. Господи, думала старуха, хорошо, хорошо на земле, хорошо. А ты все газетами своими шуршишь, все думаешь… Чего ты выдумаешь? Ничего ты не выдумаешь, лучше бы на гармошке научился играть.
"Читай, зятек, почитай – я и тебе скажу: проугрюмисся всю жизнь, глядь – помирать надо. Послушай меня, я век прожила с таким, как ты: нехорошо так, чижало. Я тут про тебя всякие слова написала, прости, еслив нечаянно задела, но все-таки образумься. Чижало так жить! Она мне дочь родная, у меня душа болит, мне тоже охота, чтоб она порадовалась на этом свете. И чего ты, журавь, все думаешь-то? Получаешь неплохо, квартирка у вас хорошая, деточки здоровенькие… Чего ты думаешь-то? Ты живи да радуйся, да других радуй. Я не про службу твою говорю, там не обрадоваешь, а про самых тебе дорогих людей. Я вот жду вас, жду не дождусь, а еслив ты опять приедешь такой задумчивый, огрею шумовкой по голове, у тебя мысли-то перестроютца. Это я пошутила, конечно, но, правда, возьми себя в руки. Приезжайте скорей, у нас тут хорошо, лучше всяких курортов. Не серчай на меня, я же тоже все думаю, не стой тебя. Но мне-то хоть есть об чем думать, а ты-то чего? Господи, жить да радоваться, а они… Ну, приезжайте. Катя, поедете, купи мне ситцу на занавески, у нас его нету. Купи голубенького. Я повешу, утром проснетесь, а в горнице такой свет хороший. Петя пишет, что не сможет этим летом приехать. А Егор, может, приедет. Здоровье у него неважное. Коля, внучек мой милый, скажи папке и мамке, чтоб ехали. Тут велики хорошие продают. Будешь на велике ездить. И рыбачить будешь ходить. Давеча шла, видела, ребятишки по целой списке чебаков несли. Приезжайте, дорогие мои. Жду вас, как Христова дня. Жить мне осталось мало, я хоть порадываюсь на вас. Одной-то шибко плохо, время долго идет. Приезжайте.
Целую вас всех. Баба Оля".
Старуха отодвинула письмо в сторонку и опять стала смотреть в окно. А за окном уже ничего почти не видать. Только огоньки в окнах… Теплый, сытый дух исходил от огородов, и пылью пахло теплой, остывающей.