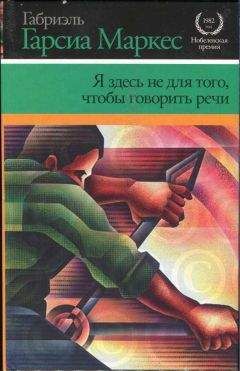Габриэль Маркес - Палая листва
– Послушайте, девушка, сварите-ка немного травы и принесите мне вместо супа.
Меме не тронулась с места. Хихикнув, но сдержавшись, она взглянула на Аделаиду. Аделаида, улыбаясь немного смущенно, уточнила: «Какой травы, доктор?» И он своим мычащим голосом жвачного животного ответил:
– Самой обыкновенной, сеньора; какую едят ослы.
5
Бывает миг, когда истекает сиеста. Даже беспрерывная, невидимая, кропотливая работа насекомых словно останавливается, сама природа будто замирает; балансирует на краю хаоса вселенная, а женщины, ловя кончиком языка каплю слюны, готовую сорваться с губ, с вдавленным в щеку следом подушки, встают, очумев от жары и духоты, и думают: «В Макондо все еще среда». Затем они рассаживаются по своим углам и начинают ткать, словно все сообща намереваются выткать гигантский саван на все селение.
Если бы время внутреннее своим ритмом синхронизировалось с внешним временем, мы бы шли сейчас за гробом по солнцепеку. Вне нас было бы уже позднее. Наступил бы вечер. Душный сентябрьский лунный вечер, и женщины сидели бы во внутренних двориках, залитых зеленоватым светом, и разговаривали, а по улице под знойным сентябрьским солнцем тащились бы за гробом мы, трое отщепенцев. Похороны никто не запретит. Я тайно надеялась, что алькальду хватит настойчивости им воспрепятствовать, и мы сможем вернуться домой, ребенок – в школу, отец – в свои шлепанцы, к своему любимому тазику, куда стекают струи прохладной воды, которой он время от времени поливает голову, к своему кувшину с ледяным лимонадом по левую руку. Но не тут-то было. Отец и на этот раз прогнул свою линию, переборов неколебимость, как мне сперва казалось, алькальда. Снаружи, вне нас, казалось, закипает селение, ткущее бесконечно длинный, однообразный саван, и простирается пустая улица, на девственно-чистой пыли которой ни единой тени – последнее дуновение ветра смело следы последнего вола. Селение вымерло, заперты двери, из-за которых доносятся лишь какие-то невнятно-бурлящие злобные слова. В комнате неподвижно сидит мальчик, разглядывая свои ботинки; время от времени он переводит взгляд на лампу, на газеты, вновь смотрит на ботинки и, наконец, упирается взглядом в удавленника, в его прикушенный язык, стеклянные глаза мертвого пса, не выражающие больше ни жадности, ни вожделения. Ребенок смотрит на мертвеца, думает о нем, лежащем под досками, делает по-детски горестный жест – и все преображается: у двери цирюльника видится табуретка, за ней столик с зеркалом, пудрой и туалетной водой. Рука покрывается гречкой от солнца, вырастает, перестав быть рукой моего сына, но превращаясь во взрослую умелую руку, неторопливо и размеренно правящую опасную бритву; слышится металлическое позвякивание лезвия, а в голове жужжит мысль: «Сегодня придут раньше, ведь в Макондо среда». И они приходят, присаживаются в прохладной тени крыльца, откидываются на спинки стульев, зловеще-угрюмые, закидывают ноги на ноги, обхватывают руками колени, откусывают кончики сигар, говорят про одно и то же, видят перед собой закрытое окно, безмолвный дом, где жила сеньора Ребека. Она забыла кое-что: выключить вентилятор, и сама бродит по комнатам с окнами, забранными решеткой, взвинченная, нервозная, перебирая хлам своего томительного бесплодного одиночества, и осязание подсказывает ей, что она еще не скончалась и доживает до похорон. Она отворяет и затворяет двери в ожидании, когда очнутся от сиесты дедовские часы и усладят ее слабеющий слух тремя зычными ударами. И все это – пока ребенок опускает руку и усаживается прямо и неподвижно, в отрезок времени, вдвое меньший, чем нужен женщине, чтобы сделать на швейной машинке последний стежок и поднять голову в папильотках. Еще до того, как ребенок сел прямо и задумался, женщина откатила машинку в дальний угол галереи, а двое мужчин, следя за тем, как прошлась туда-сюда по ремню бритва, успели откусить кончики сигар; парализованная Агеда предпринимает последнее усилие оживить свои мертвые колени; сеньора Ребека вновь направляется к закрытой двери, думая: «Среда в Макондо. Самый подходящий день для похорон дьявола». Но ребенок вновь пошевелился, и время вновь изменяет свой ход. Когда что-то шевелится, ощущаешь течение времени. Без движения оно замирает. Превращается в закостенелую вечность, пот, липнущую к телу рубашку, безнадежного мертвеца с прикушенным языком. Потому что для удавленника время неподвижно, и если ребенок шевелит рукой – он этого не знает. И в то время, когда покойный пребывает уже в вечном неведении (ребенок еще шевелит рукой), Агеда приступает к новому кругу на четках; сеньора Ребека, откинувшись в раскладном кресле, недоуменно смотрит на стрелку часов, замершую на краю неизбежной минуты, а Агеда успевает (хотя на часах сеньоры Ребеки не прошло и секунды) передвинуть бусинку четок и подумать: «Вот что я сделала бы, коли смогла бы прийти к отцу Анхелю». Рука ребенка опускается, бритва скользит по ремню, а кто-то из мужчин в тени крыльца интересуется: «Верно ли, что сейчас половина четвертого, а?» Рука замирает. Часы застывают на берегу наступающей минуты; бритва цепенеет в замкнутом своей сталью пространстве; Агеда ожидает нового движения руки, дабы подняться на ноги и вбежать с раскрытыми объятиями в ризницу с криком: «Святой отец! Святой отец!» Отец Анхель, измученный неподвижностью ребенка, увидев Агеду, слизнет с губ жуткое послевкусие фрикадельки и промолвит: «Чудо, истинное чудо», – и, вновь погружаясь в истому сиесты, пуская слюну, проворчит в потном забытье: «В любом случае, Агеда, сейчас не время для молебна душам чистилища». Но рука не успевает пошевелиться – входит в комнату отец, время внешнее совмещается с внутренним, половинки совокупляются, часы сеньоры Ребеки видят, что заплутались в неподвижности ребенка и нетерпении вдовы, и, нервически зевнув, ныряют в сказочную заводь мгновения; когда они выбираются на берег, жидкое время, само себя точно отсчитывающее, льет с них струями, и, отвесив церемонный поклон, они объявляют: «Два часа сорок семь минут ровно». А мой отец, неосознанно прервавший паралич мгновения, говорит:
– Дочь, ты витаешь в облаках.
– Что теперь будет, как ты думаешь? – спрашиваю я.
– По крайней мере я уверен, – чуть заметно улыбнувшись, отвечает он, покрытый испариной, – во многих домах подгорит рис и убежит молоко.
Гроб закрыт, но я знаю, что никогда не забуду лица покойника. Оно отпечаталось в моей памяти так, что, даже глядя в стену, я вижу его открытые остекленевшие глаза, ввалившиеся, серые, точно влажная земля, щеки, прикушенный сбоку язык. Это меня гнетуще беспокоит. А штанина, однако, так и будет резать мне ногу.
Вернувшись из соседней комнаты, дедушка пододвинул стул и сел рядом с мамой. Он сидит молча, опершись подбородком на трость и вытянув вперед хромую ногу. Он ждет. Как и мама. Индейцы, сидя на кровати, уже не курят, сидят неподвижно, тихо, глядя перед собой, и тоже ждут.
Если бы мне завязали глаза, взяли за руку и провели вокруг селения двадцать раз, а затем привели обратно в эту комнату, я бы сразу узнал ее по запаху. Мне не забыть этого запаха свалки, запаха груды чемоданов, хотя тут, кажется, всего один-единственный чемодан, настолько огромный, что в нем запросто могли бы спрятаться мы с Авраамом, поместился бы и Тобиас. Я вообще узнаю комнаты по запахам.
В прошлом году Ада посадила меня к себе на колени. Я видел ее сквозь ресницы, закрыв глаза. Видел смутно, как будто это была не женщина, а лишь лицо, которое смотрит на меня, раскачивается и блеет, как овца. Я почти заснул, но вдруг почувствовал запах.
В нашем доме нет незнакомого мне запаха. Оставаясь на галерее один, я хожу с закрытыми глазами, вытянув вперед руки. «Пахнет ромом и камфарой – значит, комната дедушки», – определяю я. Вытянув руки, зажмурив глаза, иду дальше. Заранее знаю: «Как только подойду к маминой комнате, запахнет новыми игральными картами. Потом смолой и нафталином». Иду и ощущаю запах колоды новых карт в то самое мгновение, когда доносится голос мамы, поющей у себя в комнате. Наплывают запахи смолы и нафталина. Я думаю: «Ну вот, немножко повоняет нафталином, а как только я поверну налево, запахнет бельем и давно закрытым окном. Там и остановлюсь». Сделав еще три шага и внезапно наткнувшись на новый запах, застываю на месте с закрытыми глазами и по-прежнему вытягивая вперед руки. Ада вскрикивает: «Деточка, да ты ходишь с закрытыми глазами?»
В тот вечер, засыпая, я почувствовал запах, которого нет ни в одной из комнат дома. Резкий, броский запах, будто встряхнули жасминовый куст. Я открыл глаза, втянул в себя этот густой насыщенный запах и сказал:
– Чувствуешь?
Ада глядела на меня, но, когда я заговорил, опустила и отвела глаза в сторону. Я повторил:
– Ты чувствуешь? Откуда-то тянет жасмином.
Она ответила:
– Это пахнут кусты, которые росли у стены девять лет назад.