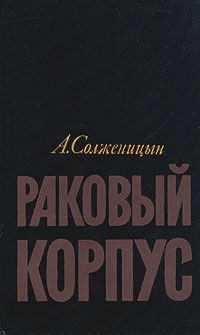Александр Солженицын - Раковый корпус
– Ч-чёрт его знает, чушь какая! – отозвался Русанов, с шипением и возмущением выговаривая «ч». – Неужели другую пластинку завести нельзя? За километр несёт, что мораль не наша. И чем же там – люди живы?
Ефрем перестал рассказывать и перевёл набрякшие глаза на лысого. Ему то и досаждало, что лысый едва ли не угадал. В книге написано было, что живы люди не заботой о себе, а любовью к другим. Хиляк же сказал: общественным благом.
Оно как-то сходилось.
– Живы чем? – Даже и вслух это не выговаривалось. Неприлично вроде. – Мол, любовью…
– Лю-бо-вью!?.. Не-ет, это не наша мораль! – потешались золотые очки. – Слушай, а кто это всё написал?
– Чего? – промычал Поддуев. Угибали его куда-то от сути в сторону.
– Ну, написал это всё – кто? Автор?.. Ну, там, вверху на первой странице посмотри.
А что было в фамилии? Что она имела к сути – к их болезням? к их жизни или смерти? Ефрем не имел привычки читать на книгах эту верхнюю фамилию, а если читал, то забывал тут же.
Теперь он всё же отлистнул первую страницу и прочёл вслух:
– Толс-той.
– Н-не может быть! – запротестовал Русанов. – Учтите: Толстой писал только оптимистические и патриотические вещи, иначе б его не печатали. «Хлеб». «Пётр Первый». Он – трижды лауреат Сталинской премии, да будет вам известно!
– Так это – не тот Толстой! – отозвался Дёмка из угла. – Это у нас – Лев Толстой.
– Ах не то-от? – растянул Русанов с облегчением отчасти, а отчасти кривясь. – Ах это другой… Это который – зеркало русской революции, рисовые котлетки?.. Так сю-сюкалка ваш Толстой! Он во многом, оч-чень во многом не разбирался. А злу надо противиться, паренёк, со злом надо бороться!
– И я так думаю, – глухо ответил Дёмка.
9
У Евгении Устиновны, старшего хирурга, не было почти ни одного обязательного хирургического признака – ни того волевого взгляда, ни той решительной складки лба, ни того железного зажима челюстей, которые столько описаны. На шестом десятке лет, если волосы она все убирала во врачебную шапочку, видевшие её в спину часто окликали: «Девушка, скажите, а…?» Однако она оборачивала лицо усталое, с негладкой излишней кожей, с подглазными мешками. Она выравнивала это постоянно яркими окрашенными губами, но краску приходилось накладывать в день не раз, потому что всю её она истирала о папиросы.
Всякую минуту, когда она была не в операционной, не в перевязочной и не в палате, – она курила. Оттуда же она улучала выбежать и набрасывалась на папиросу так, будто хотела её съесть. Во время обхода она иногда поднимала указательный и средний пальцы к губам, и потом можно было спорить, не курила ли она и на обходе.
Вместе с главным хирургом Львом Леонидовичем, действительно рослым мужчиной с длинными руками, эта узенькая постаревшая женщина делала все операции, за какие бралась их клиника, – пилила конечности, вставляла трахеотомические трубки в стенку горла, удаляла желудки, добиралась до всякого места кишечника, разбойничала в лоне тазового пояса, а к концу операционного дня ей доставалось, как работа уже несложная и виртуозно освоенная, удалить одну-две молочные железы, поражённые раком. Не было такого вторника и не было такой пятницы, чтобы Евгения Устиновна не вырезала женских грудей, и санитарке, убиравшей операционную, она говорила как-то, куря ослабевшими губами, что, если бы все эти груди, удалённые ею, собрать вместе, получился бы холм.
Евгения Устиновна была всю жизнь только хирург, никто вне хирургии, а всё же помнила и понимала слова толстовского казака Ерошки о европейских врачах: «Только резать и умеют. Стало, дураки. А вот в горах дохтура настоящие. Травы знают».
«Только резать»? Нет, не так понимала Евгения Устиновна хирургию! Когда-то им, ещё студентикам, с кафедры объявил прославленный хирург: «Хирургия должна быть благодеянием, а не жестокостью! Не причинять боль, а освобождать от боли! Латинская пословица говорит: успокаивать боли – удел божественный!»
Но даже первый шаг против боли – обезболивание – тоже есть боль.
Не радикальность, не дерзость, не новизна привлекали Евгению Устиновну в операциях, а наоборот – как можно большая незаметность, даже нежность, как можно большая внутренняя разумность – и только. И счастливыми считала она те свои предоперационные ночи, когда в полусонный мозг её вдруг подавался, как на лифте, откуда-то неожиданный новый план операции, не тот, который она записала на карточке, а мягче. С проясневшей головой она вскакивала, записывала – а утром рисковала в последний час сменить. И часто это бывали лучшие её операции.
И если бы завтра лучевая, химическая, травная терапия или какая-нибудь световая, цветовая, телепатическая смогли бы спасать её больных помимо ножа и хирургии грозило бы исчезнуть из практики человечества, – Евгения Устиновна не защищала б её ни дня.
Потому что самые-то, самые-то лучшие операции были те, от которых она вообще сумела отказаться! самые-то благодеянные для больного – те, которые она догадалась и сумела заменить, обойти, отсрочить. И в этом был прав Ерошка! И этот поиск в себе она больше всего хотела бы не потерять.
Но теряла… За тридцать пять лет работы с ножом она привыкла к страданиям. И грубела. И уставала. Уже не вспыхивало этих ночей со сменой планов. Всё меньше виделась особенность каждой операции, всё больше – их конвейерная однообразность.
Одна из утомительных необходимостей человечества – та, что люди не могут освежить себя в середине жизни, круто сменив род занятий.
На обход они приходили обычно втроём-вчетвером: Лев Леонидович, она и ординаторы. Но несколько дней назад Лев Леонидович уехал в Москву на семинар по операциям грудной клетки. Она же в эту субботу вошла в мужскую верхнюю палату почему-то совсем одна – без лечащего и даже без сестры.
Даже не вошла, а тихо стала в дверном проёме и прикачнулась к косяку. Это было движение девичье. Совсем молодая девушка может так прислониться, зная, что это мило выглядит, что это лучше, чем стоять с ровной спиной, ровными плечами, прямой головой.
Она стала так и задумчиво наблюдала за дёминой игрой. Дёма, вытянув по кровати больную ногу, а здоровую калачиком подвернув, – на неё, как на столик, положил книгу, а над книгой строил что-то из четырёх длинных карандашей, держа их обеими руками. Он рассматривал эту фигуру и долго б так, но его окликнули. Он поднял голову и свёл растопыренные карандаши.
– Что это ты, Дёма, строишь? – печально спросила Евгения Устиновна.
– Теорему! – бодро ответил он, громче нужного.
Так они сказали, но внимательно смотрели друг на друга, и ясно было, что не в этих словах дело.
– Ведь время уходит, – пояснил Дёма, но не так бодро и не так громко.
Она кивнула.
Помолчала, всё так же прислонённая к косяку – нет, не по-девичьи, а от усталости.
– А дай-ка я тебя посмотрю.
Всегда рассудительный, Дёма возразил оживлённей обычного:
– Вчера Людмила Афанасьевна смотрела! Сказала – ещё будем облучать!
Евгения Устиновна кивала. Какое-то печальное изящество было в ней.
– Вот и хорошо. А я всё-таки посмотрю.
Дёма нахмурился. Он отложил стереометрию, подтянулся по кровати, давая место, и оголил больную ногу до колена.
Евгения Устиновна присела рядом. Она без усилия вскинула рукава халата и платья почти до локтей. Тонкие гибкие руки её стали двигаться по дёминой ноге как два живых существа.
– Больно? Больно? – только спрашивала она.
– Есть. Есть, – подтверждал он, всё сильнее хмурясь.
– Ночью чувствуешь ногу?
– Да… Но Людмила Афанасьевна…
Евгения Устиновна ещё покивала понимающей головой и потрепала по плечу.
– Хорошо, дружок. Облучайся.
И ещё они посмотрели в глаза друг другу.
В палате стало совсем тихо, и каждое их слово слышно.
А Евгения Устиновна поднялась и обернулась. Там, у печи, должен был лежать Прошка, но он вчера вечером перелёг к окну (хотя и была примета, что не надо ложиться на койку того, кто ушёл умирать). А кровать у печи теперь занимал невысокий тихий белобрысый Генрих Федерау, не совсем новичок для палаты, потому что уже три дня он лежал на лестнице. Сейчас он встал, опустил руки по швам и смотрел на Евгению Устиновну приветливо и почтительно. Ростом он был ниже её.
Он был совсем здоров! У него нигде ничего не болело! Первой операцией его вполне излечили. И если он явился опять в раковый корпус, то не с жалобой, а из аккуратности: написано было в справке – прибыть на проверку 1 февраля 1955 года. И издалека, с трудными дорогами и пересадками, он явился не 31 января и не 2 февраля, а с той точностью, с какой луна является на назначенные ей затмения.
Его же опять положили зачем-то в стационар.
Сегодня он очень надеялся, что его отпустят.
Подошла высокая сухая Мария с изгасшими глазами. Она несла полотенце. Евгения Устиновна протёрла руки, подняла их, всё так же открытые до локтей, и в такой же полной тишине долго делала накатывающие движения пальцами на шее у Федерау, и, велев расстегнуться, ещё во впадинах у ключиц, и ещё под мышками. Наконец сказала: