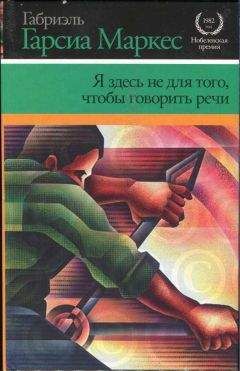Габриэль Маркес - Палая листва
Судя по горячности, пылу, с которым мачеха рассказывала, чувствовалось, что она будто заново переживает события той давней ночи, когда доктор отказался помочь Меме. От ослепительного сентябрьского света, затопляющего треска цикад, тяжелого дыхания мужчин, снимавших дверь с петель в соседнем доме, розмарин, казалось, весь налился жаром и замер.
– А в следующее воскресенье Меме явилась в церковь, разряженная, как важная сеньора, – говорила она. – Помню, что у нее был зонтик переливающихся цветов. Меме, Меме… Это тоже была кара Божия. В том, что мы забрали ее у родителей, моривших ее голодом, приняли ее, дали крышу над головой, еду, имя, – в этом тоже проявилась рука Провидения… Когда на другой день я увидела в дверях ее, ожидающую, пока один из индейцев снесет ее чемодан, я и сама не знала, куда она направляется. Изменившаяся, серьезная (вижу ее как сейчас), она стояла рядом с чемоданом и разговаривала с твоим отцом. Они все устроили, не посоветовавшись со мной, Чабела, как будто я была чертиком, намалеванным на стене. Прежде чем я стала расспрашивать, что происходит, почему в моем доме без моего ведома творятся какие-то странные дела, твой отец сказал мне: «Не нужно ни о чем расспрашивать Меме. Она уходит, но, может быть, через некоторое время вернется». Я поинтересовалась, куда же она уходит, но он мне не ответил. Он ушел, шаркая подошвами, будто я ему не жена, а нечто, намалеванное на стене.
Только через два дня, – продолжала она, – я узнала, что тот, другой, тоже ушел на рассвете, ушел, не попрощавшись – даже из элементарного приличия. Однажды он явился, как в свой дом, и через восемь лет вышел из него, как из своего дома, не попрощавшись и ничего не сказав. Ни больше ни меньше – как вор. Я подумала, что твой отец выгнал его за то, что он отказался помочь Меме. Но когда в тот же день я его спросила, он ограничился ответом: «Это длинный разговор, поговорим после». Уже прошло пять лет с тех пор, но он ни разу не коснулся этой темы.
Только с твоим отцом и только в таком бесшабашном доме, где каждый творит что захочет, могла произойти такая история. В Макондо только об этом и говорили, а я еще и не знала, что Меме пришла в церковь, наряженная, как какая-нибудь знатная сеньора, и твоему отцу взбрело в голову провести ее под руку по площади. Только тогда я узнала, что она не так далеко, как я думала, а живет с доктором в доме на углу. Они стали жить вместе, как свиньи, не переступив порога церкви, невзирая на то что она-то все-таки крещеная. Однажды я сказала об этом твоему отцу: «Бог ее накажет за этот грех». Но он не ответил. Он сохранял всегдашнее свое спокойствие, чуть ли не покровительствуя этому бесстыдному скандальному сожительству.
– Тем не менее я рада теперь, что все сложилось именно таким образом, – главное, доктор оставил наш дом. Если бы этого не произошло, он все еще жил бы в комнате. Но когда я узнала, что он покинул дом и утащил на угол свой хлам и чемодан, который не проходил в дверь, я почувствовала себя гораздо спокойнее. Это был мой триумф, отсроченный на восемь лет.
Две недели спустя Меме открыла лавку и даже купила швейную машинку. Она купила новый «Доместик» на деньги, скопленные им в нашем доме. Я расценила это как оскорбление и сказала об этом твоему отцу. Он никак не отреагировал на мое возмущение, но было заметно, что он не только не раскаивается, но удовлетворен сделанным, как будто спас свою душу, противопоставив общепринятым приличиям и чести дома свою пресловутую отзывчивость, терпимость, своеобычие и даже толику безумия. «Ты бросил свиньям лучшие из твоих убеждений». И он ответил, как всегда: «И это ты когда-нибудь поймешь».
8
Декабрь нагрянул нежданной весной, как говорится в одной книге. И с ним нагрянул Мартин. Он появился в доме после обеда, с чемоданчиком в руке, все в том же пиджаке о четырех пуговицах, теперь вычищенном и отглаженном. Он ничего мне не сказал, а направился прямиком в кабинет отца, чтобы поговорить с ним. Дата свадьбы была назначена на июль. Но через два дня после приезда Мартина отец позвал мачеху в кабинет и сказал ей, что свадьба должна состояться в понедельник. Была суббота.
Мое платье было готово. Мартин все дни проводил у нас, беседуя с отцом, а тот нам рассказывал о своих впечатлениях, когда мы собирались за столом. Я не знала своего жениха. Я ни разу не оставалась с ним наедине. Однако с отцом, кажется, Мартина уже связывала крепкая сердечная дружба, и отец говорил о нем так, будто это он, а не я, собирался за него замуж.
Я в преддверии свадьбы не испытывала никаких чувств. Я пребывала в серой туманной пелене, сквозь которую различала, как Мартин приходит, плоский и бесплотный, говорит, жестикулируя, расстегивает и застегивает четыре пуговицы пиджака. В воскресенье он обедал с нами. Мачеха рассадила всех таким образом, что Мартин оказался рядом с отцом, отделенный от меня тремя стульями. За обедом мы с мачехой произнесли лишь несколько слов. Отец с Мартином говорили о своих делах. И я, сидя на расстоянии трех стульев, видела человека, который через год станет отцом моего ребенка и с которым меня не связывало даже подобие дружбы.
В воскресенье вечером в спальне мачехи я примерила подвенечное платье. Я видела себя в зеркале – бледную и чистую, окутанную облаком прозрачного газа, и самой себе казалась призраком своей матери. Я говорила зеркалу: «Это я, Исабель, на мне подвенечное платье, в котором утром я выйду замуж». Но я не узнавала саму себя, сквозь зеркальное отражение проступал образ покойной матери. Меме говорила о ней в доме на углу несколько дней назад. Она мне рассказала, что после того, как я родилась, ее обрядили в свадебное платье и положили в гроб. И теперь, глядя на себя в зеркало, я видела подернутые зеленоватой могильной плесенью материнские кости в истлевшем тюле, весь слежавшийся желтый прах. Я была по эту сторону зеркала. По ту сторону была мать, вновь ожившая, протягивающая руки из своего застывшего пространства, чтобы воткнуть первые булавки смерти в мой свадебный венец. А позади, стоя посреди спальни, очень серьезно, изумленно смотрел на меня отец:
– Ты сейчас, в этом платье, вылитая она.
Этим вечером я получила первое, последнее и единственное в своей жизни любовное послание. Записку от Мартина, написанную на обратной стороне кинопрограммки. Он писал:
«В связи с невозможностью поспеть ко времени этим вечером, я исповедуюсь завтра на рассвете. Передайте полковнику, что дело, о котором я с ним говорил, почти удалось, и именно поэтому я не смогу сегодня прийти. Вы очень напуганы? М.».
С мучнистым привкусом этого письма во рту я ушла к себе в спальню, и несколько часов спустя, когда мачеха меня разбудила, я все еще чувствовала его горечь на нёбе.
Но в действительности прошло еще много часов, прежде чем я окончательно проснулась. Свежим влажным утром я обнаружила себя в подвенечном платье в благоухании мускуса, которым была надушена. Я чувствовала сухость во рту, как бывает в дороге, когда недостает слюны, чтобы смочить хлеб. Посаженые были в гостиной с четырех часов. Я знала их всех, но теперь видела их новыми, преображенными – мужчин в суконных костюмах, женщин в шляпках, разговорчивых, заполняющих дом густыми раздражающими испарениями своей болтовни.
Церковь была полупуста. Несколько женщин оглянулись на меня, когда я, подобно жертвенному агнцу, ведомому на заклание, пересекала центральный неф. Зверюга, худой и гордый, единственное существо, которое имело четкие контуры в этом сумбурном кошмарном сне, спустился по ступеням и четырьмя скупыми взмахами тощих рук вручил меня Мартину. Мартин стоял рядом со мной, спокойный и улыбающийся, такой, каким я увидела его на отпевании младенца Палокемадо, но теперь коротко остригшийся, словно для того, чтобы продемонстрировать мне, что в день свадьбы он постарался быть еще более нереальным, чем в обычные дни.
Тем утром по возвращении домой, после того как посаженые позавтракали и обменялись положенными фразами, мой супруг вышел на улицу и вернулся только после сиесты. Отец и мачеха, казалось, не отдавали себе отчета в странности моего положения. Они не изменяли заведенному распорядку дня, их поведение никак не позволяло ощутить необычность этого понедельника. Я сняла свадебное платье, свернула, положила в глубину шкафа и, вспоминая о матери, подумала: «Ну, по крайней мере эти тряпки пригодятся мне для савана».
Призрачный новобрачный вернулся в два часа пополудни и сказал, что уже отобедал. Когда я увидела, как он пришел, коротко стриженный, голубой декабрь померк в моих глазах. Мартин сел рядом со мной, и некоторое время мы молчали. Впервые с рождения я почувствовала страх перед наступлением темноты. Должно быть, каким-то жестом я себя выдала, потому что внезапно Мартин ожил, наклонился ко мне и сказал:
– Ты о чем думаешь?
Я почувствовала, будто что-то вонзилось мне в сердце: незнакомый человек назвал меня на ты. Я поглядела вверх, на гигантский, сверкающий, точно стеклянный, купол декабрьского неба и сказала: