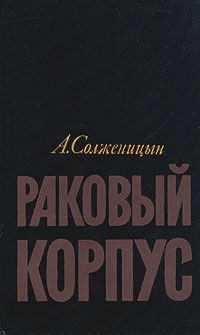Александр Солженицын - Раковый корпус
Срок наказания, определённый для А. С., истёк 9 февраля 1953 г. Но его несколько дней передержали в лагере, затем из Экибастуза кружным путем – через Павлодар, Омск и Новосибирск – почти месяц везли этапом в ссылку на юг Казахстана. В Джамбуле, в областной комендатуре, дали расписаться под уведомлением о том, что имярек направляется в Кок-Терекский район навечно, а в случае самовольного отъезда за его пределы будет осуждён по Указу Президиума Верховного Совета, предусматривающему двадцать лет каторжных работ. Советская юриспруденция гордилась тем, что не знает бессрочных наказаний. Но практика мало считалась с теорией.
3 марта этап наконец-то достиг цели – аула Кок-Терек, у края безжизненной пустыни Бетпак-Дала, где ссыльному предстояло жить и умереть. А на третий день глухо молчавшее проводное радио вдруг заговорило, чтобы известить о смерти Сталина. И отныне судьба самой политической ссылки оказалась в зависимости от исхода борьбы за власть между наследниками диктатора.
Перед самой войной А. С. закончил физико-математический факультет Ростовского университета и, прежде чем уйти в армию, успел, пусть и недолго, поработать в школе там же, на Дону, в посёлке Морозовском. И теперь, в ссылке, через одиннадцать с половиной лет, он первым делом попытался вернуться в школу. Но ни в районном отделе народного образования, ни в областном никто не хотел рисковать, принимая на педагогическую работу государственного преступника. И всё же нашёлся в Кок-Тереке человек, который, ссылаясь на бедственное положение в школе с преподаванием математики, добился назначения А. С. учителем алгебры, геометрии и физики в оба выпускных класса, да ещё за три недели до выпускных экзаменов, в самом конце апреля. Это был молодой завуч, казах Джохар Маринов, единственный на весь посёлок учитель с университетским дипломом. И вчерашний зэк стал готовить детей к жизни на воле, сам оставаясь поднадзорным и невыездным.
Но, помимо общей со всеми ссыльными безнадёжной участи, на А. С. наваливается своя, отдельная беда. За год до конца лагерного срока, 12 февраля 1952 г., ему удалили вдруг пустившуюся в рост старую опухоль (семиному). Хирург-зэк, который взялся делать операцию, накануне ночью был уведён в тюрьму и затем на этап. А хирурга, который её сделал, отправили на этап через неделю. И пациент оказался предоставлен самому себе. Откуда ему было знать, что после такой операции необходим курс рентгеновского облучения, чтобы предотвратить образование метастазов. Да и не было ни специальных рентгеновских установок, ни профессионалов-рентгенологов в лагерной санчасти.
И через год с небольшим, вскоре по освобождении из лагеря, непонятная болезнь схватила ссыльного. «Еле держась, я вёл уроки; уже мало спал и плохо ел», – рассказывает А. С. в «Архипелаге ГУЛАГе»[4]. В районной больнице не смогли поставить диагноз, колебались между гастритом и язвой. Такой же ссыльный Николай Иванович Зубов, с которым А. С. и познакомился в больнице, но не как с медиком, а как зэк с зэком, первый заподозрил, что это, по-видимому, проступили метастазы рака. Из Кок-Терека больного послали на обследование в областной город – Джамбул. И рентген показал опухоль. Врачи определили, что она громадная, твёрдая, малоподвижная, выросла из задней стенки брюшной полости; очевидно, метастазического характера. А из живота опухоль уже выпирала как крупный мужской кулак. «Операцию джамбульские хирурги признали невозможной и вообще никакого лечения не предложили, – писал А. С. 3 декабря 1953 г. Н. И. Зубову, – попросту вынесли мне смертный приговор без указания срока»[5].
До конца декабря у себя в Кок-Тереке А. С. через силу продолжает занятия в школе, отложив до зимних каникул направление на консультацию к онкологам Ташкентского мединститута и справку, разрешающую отлучиться из пункта ссыльной приписки на время лечения. В декабре врачи, товарищи по ссылке, подтвердили, что жить 35-летнему учителю осталось не больше трёх недель. С этим уточнённым приговором он и отправился 31 декабря, под новый, 1954 год, в Ташкент умирать.
Полтора месяца, с 5 января до середины февраля, А. С. провёл в Тринадцатом (онкологическом) корпусе ташкентской клиники. Попади он в руки хирургов, те, возможно, настояли бы на повторной операции с неизвестным исходом. Но заведующая лучевым отделением Лидия Александровна Дунаева пришла к выводу, что спасти пациента может лишь предельная доза облучения, если только он её выдержит. У А. С. хватило сил принять 12 тысяч рентген, и болезнь отступила. Диагностика и назначения Лидии Александровны оправдались. А вела больного Ирина Емельяновна Мейке. Она лечила и вылечила.
Сам А. С. воспринял своё выздоровление не как излечение, а как исцеление: «При моей безнадёжно запущенной остро-злокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор – не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель»[6]. И, стало быть, «Раковый корпус» входит в состав этой цели.
Замысел повести «Раковый корпус» относится к лету 1954 г., когда А. С. долечивался в Ташкенте.
«Когда задумаешь – этот момент внезапен, – говорил он в телеинтервью с Н. А. Струве (март 1976). – Раз я шёл, выйдя из диспансера, шёл по Ташкенту, в комендатуру, и вдруг меня стукнуло, вот почти всё из “Ракового корпуса”. <…>
Ну, всё, что линия Костоглотова, всю её во всяком случае… А линию Русанова по разговору моих соседей, я ведь с ним не лежал, по разговору однопалатников. Я подумал: вот так это можно было бы написать. И это легло и лежало совершенно неподвижно, и могло и не написаться. А в 1963, когда “Ивана Денисовича” уж напечатали, я думал: что же можно такое написать и попробовать дать публично в “Новый мир”? И я так написал “Раковый корпус”. А мог и не написать, могло бы лежать»[7].
Ещё раньше, 8 декабря 1968 г., А. С. записал в «Дневнике Р-17», сопровождавшем работу над главной вещью писателя – «Красным Колесом»:
«Сюда не относится, но вспомнилось сегодня, как зарождался “Раковый корпус”. Для неглавного произведения жизни это, вероятно, характерно: случайные звенья, которые могут и не соединиться.
Сперва – чей-то в диспансере рассказ о больном прокуроре, – лежал тут и брюзжал (“нас население не поддерживает”) – чисто как благонамеренный в тюремной камере. Я его и не видел никогда. Ещё и о сыне его, как он ездил на инспекцию. У меня заложилось: “Два рака”, такой мог бы быть рассказ. Записал и в список, и много лет так стояло: “Два рака”.
Потом – печально-радостное слонянье по Ташкенту в день выписки (1954), и именно на той улице к комендатуре – пронзительная мысль: вот была бы повесть о любви! – почти новый поворот. Заложилось и это. <…>
Лишь через 8–9 лет, уже перед появлением “Ивана Денисовича”, оба сюжета соединились – и родился “Раковый корпус”. Я начал его в январе 1963, но он мог и не состояться, вдруг показался малозначительным, на одной линии с “Для пользы дела”, я переколебался и написал “ДПД”, а “РК” совсем забросил.
Потом как-то выделилась “Правая кисть”.
Надо было создаться отчаянной ситуации после отнятия архива, чтобы в 1966 г. я просто вынужден был из тактических соображений, чисто из тактических: сесть за “РК”, сделать открытую вещь, и даже (с поспеху) в два эшелона»[8].
Итак, за «Раковый корпус» А. С. принялся в январе 1963 г. После пуб ликации рассказа «Один день Ивана Денисовича» («Новый мир». 1962. № 11) и «двух рассказов» – «Случай на станции Кочетовка» (в журнале – Кречетовка) и «Матрёнин двор» (Там же. 1963. № 1) А. С. стал двигать сразу «четыре больших вещи». Собирал материалы к «Архипелагу ГУЛАГу» и «Красному Колесу», выцеживал из «Круга первого» главы «для неожиданной когда-нибудь публикации» и «начал “Раковый корпус”»[9].
В начале марта 1963 г. А. С. обратился в Ташкент к заведующей отделением онкодиспансера Лидии Александровне Дунаевой (в повести её биографией и чертами наделена Людмила Афанасьевна Донцова) и своему лечащему врачу Ирине Емельяновне Мейке (на неё ориентирована Вера Корнильевна Гангарт) с просьбой подробно рассказать о себе и ответить на комплекс вопросов из области медицины. В ответ между 13 и 16 марта Ирина Емельяновна написала главным образом о своей наставнице Л. А. Дунаевой, которая в те дни обследовалась в Москве с подозрением на опухоль в желудке. 28 марта А. С. повторил просьбу: «Я понимаю, что Вам, может быть, не до того, но очень прошу Вас выделить время, совершить такой труд и помочь мне обстоятельно написать о себе, может быть, даже не одно письмо, а несколько. Мне хочется, чтобы Вы или такой же человек, похожий на Вас, по Вашему желанию (можно ближе или дальше), ходил бы по моей девятой палате – и улыбался Вашей приветливой улыбкой. Мне для этого надо знать всё порядочно, а я ведь ничего не знаю. Если бы Вы могли уделить внимание и прислать вот такую биографию»[10]. Написать о себе Ирина Емельяновна решилась не раньше осени, о чём можно судить по содержанию письма: «Сейчас у нас тепло. Снега нет. Рынки – со свежими фруктами»[11]. Причиной многомесячных колебаний стала давняя семейная трагедия: «Был брат-инженер. Пострадал от эпохи – расстрелян в 1938 г. и посмертно реабилитирован. Это сообщили 65-летней старухе-матери, вызвав её в органы. Мы даже не знали, что с ним случилось такое. Знали, что посажен, и всё. Всё это убило мать! <…> Случившееся угнетало всю нашу семью. <…> Свою сознат<ельную> жизнь я жила угнетённая этим обстоятельством»[12]. Всё это А. С. узнал слишком поздно, и личная история Веры Гангарт не совпадает с личной историей И. Е. Мейке.