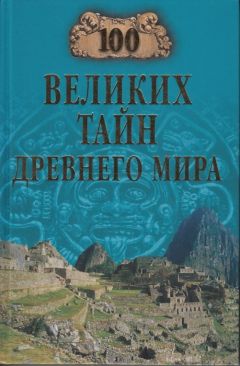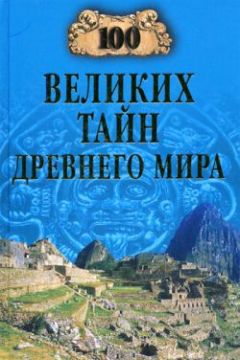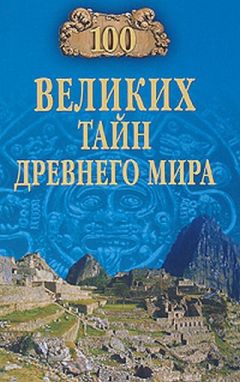Александр Секацкий - Миссия пролетариата
А практика как критерий истины? Она ведь напрямую отрицает самодостаточные ценности перемещенных миров и делает это вполне эксплицитно, подвергая критике всякую частичность и обособленность, в том числе обособленность фрагментов символического производства. Провозглашаемая марксизмом причастность к полноте человеческой осуществленности ставит во главу угла тотальность праксиса, включающую в себя и материальные интересы, и интересы классовые, и параметры контактного проживания вообще.
Подумаем, что в этом случае означает идеология. Она означает указание на представительство материальных интересов во всех областях символического[194], при этом капитализм обвиняется в сокрытии такого рода представительства, а материалистическое понимание истории, напротив, состоит в его честном признании. С позиций радикального марксизма частичные индивиды суть своего рода калеки, причем не только тогда, когда они отчуждены от культурных запросов, как это случилось с пролетариатом, но и когда они изъяты из процесса коллективного труда: жертвой эксплуататорского общества является даже Гегель, который «поставил дело логики выше логики дела».
Этика пролетариата направлена против химерологии присутствия, притом в ней достаточно четко расставлены точки над «і». Буржуазная идеология обличается не за то, что она присутствует в качестве идеологии и применяется к чистому разуму извне, а за отказ признать факт неустранимой гетерономии. Восходящий субъект истории, то есть пролетариат и его авангардная партия, открыто объявляет о своей идеологии: провозглашается в качестве приоритета целостность праксиса, что означает, что базисные интересы могут и должны быть представлены во всех слоях символического, в том числе и в фундаментальной науке, которая получает внятно сформулированный социальный заказ (Николай Федоров назвал это «долгосрочной командировкой ученого сословия»[195]).
Автономия чистого теоретического разума, равно как и автономия чистого эстетического созерцания, довольствуется лишь отставанием собственного права на автономию, не пытаясь особо рефлектировать, во имя чего. Ответ Канта на вопрос «для чего нужна автономность субъекта?», данный во второй критике, если его суммировать в двух словах, гласит: «Чтоб так было. И с нами Бог!»
* * *У этого вопроса существует и другой, чисто житейский разворот, дающий тем не менее основания для далеко идущих обобщений. Как-то я беседовал со своей знакомой насчет нелегкой судьбы ее дочери Ирины. Дочь вышла замуж, но взаимоотношения в семье, что называется, не заладились, и знакомая долго жаловалась на несправедливость, которую приходится выносить бедной девочке. Немного зная эту семью, я попробовал привести ряд аргументов насчет того, что не только муж виноват, – и, пожалуй, несколько увлекся. Выслушав ряд соображений, знакомая решительно перебила меня и заявила:
– Да, то, что ты говоришь, может быть, и верно, но ведь наша-то Ирочка!
Эта реплика меня совершенно обезоружила, и я далеко не сразу осознал, что ее универсальный аргумент далеко не так наивен, как кажется. Если вдуматься, то к нему можно свести множество других, куда более изощренных доводов. Парламентские речи, политическая журналистика, юридическая практика и еще множество риторических областей при всей своей изощренности без труда сводятся к тезису «но наша-то Ирочка!».
И потому встает вопрос: а какова же его внутренняя оправданность, если таковая вообще есть? Ответить не так просто, как кажется. Можно сказать, например, что «у каждого своя Ирочка», и мы далеко не уйдем, если каждый будет только к собственной Ирочке апеллировать, для того-то нам и дан разум, чтобы, по крайней мере… ну, находить консенсус. То есть давайте идеологически разоружимся, и тогда пусть победит сильнейший, он и будет «на самом деле прав».
Беда, однако, в том, что с высокой степенью вероятности победу может одержать сторона, которой надежнее всего удалось спрятать «нашу-то Ирочку» за аргументами чистого разума. Собственно, наша обычная повседневность это и подтверждает. Призыв к идеологическому разоружению не работает, если угодно, в силу самого грехопадения, неустранимого факта телесной воплощенности человека. Тут всегда получается, как в детском анекдоте, когда собравшиеся звери – медведь, волк, заяц и лиса – решают сыграть в карты, но наученный горьким опытом медведь на всякий случай предупреждает:
– Только не жульничать! А кто будет жульничать, того будем бить по морде. Да-да, по наглой рыжей морде!
В сущности, это прекрасная иллюстрация провозглашаемого обнуления идеологических позиций – ничем иным подобный призыв никогда и не заканчивался. Материалистическое понимание истории (и пролетариат, его разделяющий) к идеологическому разоружению никогда и не призывает, пролетариат готов акцентировать свою идеологию предпочтения по всему фронту символического, готов открыто поддержать «свою Ирочку» – ну, или свою Розу Люксембург.
Ведь его критерием является практика во всей ее цело-купности, а значит, у пролетариата свой список обоснованных сомнений и, разумеется, собственное поле обоснованной несомненности, устанавливаемое не навсегда, а лишь здесь и сейчас.
Отсюда вывод: сторонникам перемещенного мира, которые не всегда бывают в большинстве, но которые тем не менее на протяжении многих эпох определяют историю, следует задуматься над собственной эксплицитной этикой. Для этого недостаточно просто отвергнуть тезис о «нашей Ирочке» как гетерономный и циничный. Его следует признать действительным требованием праксиса. Дело в другом, в ответе на вопрос, какова же природа той силы, что заставляет порой забыть Ирочку. Почему схемы абстрактной справедливости, которые могли ведь ничего не значить, значат, да еще как?
Тут, конечно, принято ссылаться на совесть, однако вопрос этим не решается, ведь и совесть тоже откуда-то берется. У Канта именно здесь вступает в силу категорический императив, заставляющий говорить о богоподобии человека, чего напрямую как будто не требовало звездное небо надо мной. Но для имманентной этики простой ссылки недостаточно, отсюда и вопиющий дефицит содержания, и упреки в формализме, давно уже ставшие общим местом по отношению к «Критике практического разума».
Бессодержательность можно хотя бы отчасти устранить, если свести воедино выявленные здесь тенденции. Вспомним их. Категорический императив, заставляющий всякое сознание устранять моральную гетерономию или, по крайней мере, считать лучшим того человека, который интересам близкой Ирочки предпочитает интересы справедливости самой по себе, – это раз.
Далее. Обустройство территорий правильного удивления происходит уже после того, как произведены решающие отождествления, и только после принятия по умолчанию множество конвенций. Например, конвенции о равноправной сочности яблока и «яблока» можно включить наконец в режим cogito ergo sum. Сюда, конечно же, войдет и наука с ее правилом точечных касаний, в соответствии с этим правилом входящая в соприкосновение реальность должна быть отфильтрована, очищена, абстрагирована до уровня корректного эксперимента, и лишь такое соприкосновение засчитывается в качестве реального свидетельства.
Но, помимо науки, сюда же включены и все практики толкований, по сути дела, вся признанная гуманитаристика (как герменевтика), предполагающая некий Первичный текст в качестве данного, тем или иным способом (хоть бы и чудесным) обретенного, и производящая в качестве аналога научных знаний комментарии к первичному тексту и комментарии к комментариям. То есть весь свод философской и культурологической герменевтики есть не что иное как реальное знание о вымышленных вопросах. И если сходу прикинуть, на что оно похоже, то ответ напрашивается сам собой: на реальные, подлинные чувства вымышленных персонажей.
Отсюда естественный переход к искусству, к перцептам и аффектам в смысле Делеза – Гваттари, целью которых является обретение статуса самостоятельных существ (своеобразных изоорганизмов). Лучший человек должен подключаться к перцептам и образам, как к высшему Сенсориуму, он должен обжить территорию придуманной боли, должен стать своим в пространстве обустроенной чувственности, опирающейся на текстуальные модули, а не на «нервные волокна».
Сюда еще можно добавить много чего, в первую очередь синтетическое линейное время, не зависящее от природных синхронизаций, например время Игры и Работы как чисто синтетическое единство сакральности и повседневности.
И вот, окидывая взглядом все перечисленное, мы понимаем наконец, в чем его общность, а стало быть, и этика. Эти «высшие ценности» (пока еще в кавычках) ценны именно тем, что расположены в перемещенном мире, в его зыбких пределах по преимуществу. Мы, люди, находимся в процессе колонизации этого мира, и скорость колонизации, обживания и обустройства нарастает. Здесь заданы интерьеры мысли (пусть контурно) и постройки знания, для которого запас первичных текстов всегда уже достаточен. Здесь развернуты горизонты абстрактной справедливости, принципиально не имеющей отношения к степени природного родства. И, конечно же, концепты и перцепты, бесчисленные производные легкого символического, прекрасные бумажные цветы искусства, благополучно проросшие сквозь страницы, сцены, сквозь мрамор, холст, кинопленку, сквозь гаджеты, виджеты и другие окультуренные сорняки, – все они в совокупности являются ценностями перемещенного мира, и именно благодаря им абстрактная справедливость ценится выше интересов «нашей-то Ирочки».