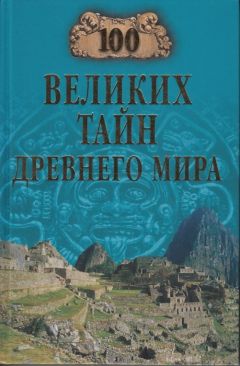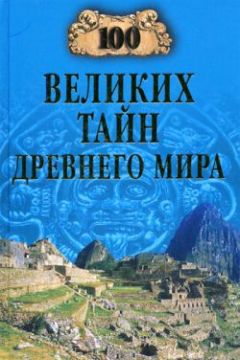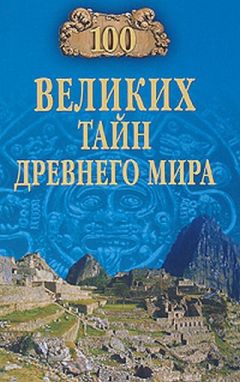Александр Секацкий - Миссия пролетариата
Второй путь, в сущности, тот же, которым шел Авраам в землю Мориа, и именно этот путь совпадает с траекторией очеловечивания, поскольку жертвоприношение перестает быть единичным актом и обретает измерение длительности. Тогда оно и есть жало в плоть, которое неминуемо приводит к воспалению, и воспаление это мы как раз и именуем душой. Потом, когда воспаление примет хронический характер, любой бунт пойдет ему (или ей, душе) только на пользу, но если никаких рефлексивных изгибов не возникло, то символическому никак не зацепиться в этом индивидуальном очаге жертвоприношения.
В результате возникает экзистенциальный перекресток, который явно предшествует гегелевской тяжбе господина и раба и, следовательно, является базисным, более важным для производства человеческого в человеке. Получается, что бог-палеоантроп, ядущий и кормимый, способный к отключению путем интердикции инстинкта самосохранения у «большелобых», не может извлечь из своей позиции никакой экзистенциальной прибавки, его способ управления остается чисто техническим и тупиковым с точки зрения обретения сознания. Пропасть сакрального так и не разверзлась перед ним. В конце концов, так и не перешагнув порог очеловечивания, этот дэв-палеоантроп сошел с дистанции, он лишь делегировал в будущее свою функцию ревностного и всемогущего распорядителя, которая и приняла подобающий вид божественности.
А вот Ядомый оказывается в самом центре событий, то есть событие экзистенции произошло и происходит именно с ним. Сам его поступок, способ сопровождения на заклание, противоречит не только генной записи первого порядка, то есть простому самосохранению, но и генетическому тексту второго порядка, поскольку это внутренняя отмена команды «Сохранить успешную копию!». Никаких физиологических аналогов состоянию отмены такой команды не было и быть не могло, ибо невозможно предусмотреть подобную константную реакцию на перечеркнутость основного принципа жизни, репликацию молекулы ДНК, имеющую всегда узнаваемую идеологию.
Это степень безумия или поломка, которая гораздо глубже и серьезнее любого экспериментального невроза, некая абсолютная тератология с точки зрения природы. Однако эта поломка в силу своей константности, длительности и репродуктивности обретает устойчивую форму без физиологического коррелята (на месте которого – сплошной сбой и безумие); имя этой формы – вера. Так учреждается исходный, абсолютгый модус веры – credo ipso absurdum.
Вспомним еще раз второй великий урок, чтобы вернуться к первому, величайшему. Господин властвует и господствует, а в итоге готовит себе преемника. Раб для господина оказывается объектом господства, говорящей вещью, но все равно вещью, и, следовательно, не может научить господина ничему экзистенциальному. Для него же самого господин – не вещь. Для него господин – сущность. В том-то все и дело, что господин не дан сущностно самому себе, его сущность как бытие-для-другого дана рабу и лишь в этой данности может быть присвоена. Лишь раб находит подлинное экзистенциальное применение наследию господина.
Однако этому экзистенциальному перекрестку противопоставлен другой, более древний, и как бы ни были важны разборки господина и раба, но разборки Авраама с Богом еще важнее. Есть все основания полагать, что слова Авраама, сказанные Исааку: «Господь усмотрит себе агнца для всесожжения» – суть первые воистину человеческие слова, слова подтверждающие и гарантирующие необратимость вочеловечивания. Их другую версию озвучил Иисус, Сын Человеческий, в своем напутствии всему роду людей: «Пейте кровь мою и вкушайте плоть мою» – таков великий символ причастия, важнейшего и самого тайного таинства: будьте причастны богам, будьте как боги…
Чем либо меньшим, нежели это, не может быть отмечен опыт веры, более простых единиц он не содержит, по крайней мере в роли эталона-первоисточника. Но и опыт сознания «в форме» субъекта, обладающего сознанием, не может быть обретен каким-нибудь менее жизнезатратным способом, даже если потом траектория скользящей рефлексии легко выводит за пределы антропологической родины.
Итак, жертвоприношение, иррадиируя вовне, обеспечивает единство социума, ощущаемое и проверяемое на уровне эмпирической достоверности. Жирар говорит о правильной циркуляции насилия[177], в которой чередуются катарсис с инфлюэнсом; распространяясь вовнутрь, оно создает воспаление, интоксикацию, синдром Авраама, который вполне уместно назвать душой. Нелегко понять и интерпретировать при интоксикации в ряду смыслов того, что этим смыслам предшествует. Какова галлюциногенная подкладка этого странного отношения между кормящими и кормимыми?
Отбрасывания (отбросы) рефлексии, вызванные необходимостью платить дань во всех формах, включая и плоть от плоти своей и собственную плоть, несомненно, как-то выглядит – и в психологическом, и в феноменологическом смысле. В самом общем приближении это покорность, благодарность, смирение с судьбой, это некий прообраз основного религиозного чувства. Это монада или семиозис веры.
Со стороны сознания речь тоже идет об исключительно важной вещи, сильно модернизируя это исходное состояние сознания, его можно охарактеризовать так: в моем собственном бытии нет истины. Истина находится вне меня, само основание моего бытия находится вне меня – вот почему я так живу. Сказать, что это «стокгольмский синдром», значит ничего не сказать, перед нами идея правоты высшего другого (фактически идея Бога, первый ее проект) и идея истины как состояния внешнего мира, причем такого состояния, которое отрицает инстинкт самосохранения, и несмотря на это, лучше даже сказать, в силу этого является истиной. То есть истина изначально есть нечто жертвенное и самопожертвенное в первую очередь.
В дальнейшем истина претерпевает многоступенчатую эволюцию вплоть до значения символа «И» в логических таблицах. Но и сегодня ощущение некоторого неудобства, дискомфортности истины остается. И чем более существенным, экзистенциальным является контекст истины, тем больше она противоречит самосохранению индивида и вообще атомарной индивидуальной пользе.
Истину надо выстрадать, обладание ею и овладение не могут быть слишком легкими, в противном случае истина не сработает в качестве истины. Это абсолютно и непреложно для истины веры, но и истина науки, заслуживающая своего имени, тоже странным образом сохраняет характер выстраданности. Наконец, необходимость преклонения перед истиной, необходимость подчинения ее вердикту сама по себе не имеет никаких рационально – прагматических объяснений….
Жертвенное начало удивительно еще и тем, что его способность к сублимации не уступает сексуальному началу (либидо), а то и превосходит его. Неопознанные и с большим трудом опознаваемые аватары жертвоприношения расположены по всему фронту определенности человеческого. В высших формах религиозного пиетизма, в метафизической готовности делать ставку на ничто, в научной объективности и внеположности истины – всюду, присмотревшись, можно увидеть отблеск жертвенного костра и того первичного недифференцированного состояния, когда «большелобый», расставаясь со своими близкими, выплачивая страшную дань чудовищу, продолжает жить.
И пока он не пребудет в этом состоянии должное время, не освоит его, вспышки сознания не случится. Только после надлежащего запечатления случившегося опыт героизма (стадия Геракла) и одиссеевская хитрость разума, отталкиваясь от обретенного плацдарма, могут завоевать новые территории.
Но, пожалуй, не менее поучителен момент редукции или регрессии к исходному состоянию, казалось бы, окончательно снятому и трижды забытому.
Вот современная Европа, пребывающая в полной и тотальной богооставленности. Тут, казалось бы, о жертвоприношении Авраама забыли навеки, но некоторые странные, иррациональные действия аборигенов заставляют задуматься.
Новые привычки «большелобых» что-то очень напоминают. Например, когда коренные парижане или брюссельцы изо всех сил пытаются ублажить диких пришельцев: они ходят по струнке, одергивают друг друга, если кто-то вдруг проявит недостаточную почтительность к кормимым, а главное – приносят в жертву своих детей, истребляя в них все, что могло бы сойти за расизм, обрекая их на роль шестерок в школах и детских садах и непременно отдавая кормимым своих лучших девушек. Что ж, если это так, если опыт веры отрабатывается на самом низшем, исходном уровне и будет вполне отработан, то должен прийти новый Геракл, который низвергнет кормимых богов, а его соотечественники очнутся от обморока и будут ему благодарны.
Подобная черновая схема, апеллирующая к самой общей интуиции, может выглядеть так:
1. В соответствии с теорией Поршнева – Дидиенко разделившаяся в себе ветвь гоминид разделяется как бы на вещество и антивещество, вступая в процесс аннигиляции, так что эту первую стадию социогенеза можно назвать аннигиляцией естества.