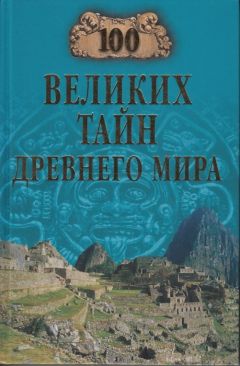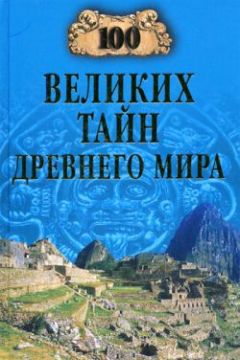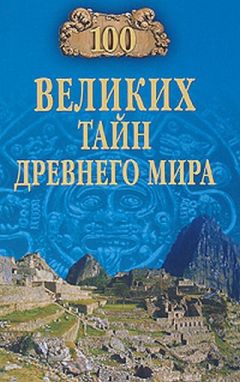Александр Секацкий - Миссия пролетариата
Соответственно, сменив угол обзора, перейдя к другой тематизации, мы получаем следующий расклад. Регистры реального, они же семиозисы, образуют сквозные, но компактные сферы опыта: опыт веры, опыт любви-страсти, опыт мыслимого (адресуемый трансцендентальному субъекту и хранимый им) и т. д. Из них по принципу букета собирается праксис, хотя правильнее будет сказать, что праксис разлагается на спектральные линии семиозисов. Собственно внешний мир при этом не образует особого семиозиса, как не образует его и органика двойного назначения в целом, в известном смысле внешний мир тоже является букетом, а в ряде случаев может быть рассмотрен как расширение того или иного семиозиса. Ведь ясно, что внешний мир сквозь призму ревности предстает иначе, чем в модальности веры, он различен (и даже неузнаваем) в зависимости от оптического преломления тем или иным настроением, в качестве объективно предметного, подлежащего познанию он тоже просто приобретает особую окраску. Привычную окраску, привычный характер объективного с поправкой на данность этому мыслящему.
Иными словами, внешний мир так, как он открыт сознанию, «я»-познающему, есть нечто привилегированное. Это привилегированная данность мира, образующая континуум и с теми предметами мысли, которые не имеют «пинаемых коррелятов». В этот континуум входят и «корзина», и «прочность», несмотря на то что корзину можно пнуть, а прочность – нет. Но «святыня» не входит в объективный внешний мир, открытый опыту познания, точнее говоря, только опыту познания. Святыня обнаруживает свое присутствие в опыте веры, в реальности другого семиозиса. Хотя она безусловно присутствует в букете праксиса, вызывая порой раздражение у мыслящего, ибо в отличие от многих других предметов внешнего мира как расширения собственного семиозиса святыня относится к немыслимому не-мыслимому, тогда как корзины и их прочности относятся к мыслимому (корзина мыслится как не-мыслимое, а прочность как мыслимое). В опыте чистого познания, чистого теоретического разума, святыни нет в качестве предмета, хотя она есть там в качестве «гравитации», некой интоксикации мысли, вызывающей, по аналогии с измененными состояниями сознания (ИСС), измененное состояние познания (ИСП).
Отсюда проистекает, например, характерный пиетет, особенно хорошо заметный у составителей средневековых сумм и компендиумов (включая и самого Фому Аквинского), – как будто мысли изменяют ее привычные хладнокровие и ловкость, она начинает пошатываться, трепетать, обнаруживает и другие признаки ИСП. Читатель соответствующих текстов, впрочем, все это прощает и даже не замечает, поскольку принадлежит к тому же праксису.
Разумеется, вместо особого пиетета может присутствовать и досада, когда предметы и акты веры входят в опыт чистого теоретического разума и не поддаются обработке инструментами ratio, нарушают однородность всех процессуальностей. Как исследовать природу реликвии? Быть может, взвесить мощи святого Себастьяна? Произвести их датировку, применяя радиоуглеродный метод? А потом с высокомерием «подлинно научной науки» разоблачить фикцию?
Нельзя не признать, что это занятие по своей нелепости ничуть не уступает попытке пнуть прочность, потренировавшись предварительно на корзинах и футбольных мячах Все же это занятие получило свой достопочтенный ярлык и именуется научным атеизмом. Вообще раздел кантовской «Критики чистого разума», посвященный паралогизмам и другим незаконным применениям рассудка за пределами опыта[144], остается крайне актуальным и сегодня.
Таким образом, «объективный вненаходимый мир» может быть рассмотрен как весь мир, за исключением внутреннего, но это все, что видно из приоткрытого забрала познающего, причем, так сказать, при свете дня, при использовании «естественного света разума», на который так любил ссылаться Декарт. Понятно, что собственная подсветка других семиозисов актуализует и иные очертания мира (и далеко не всякий семиозис допускает разделение на внутреннее и внешнее).
Для нас важнее всего сейчас исследовать совокупность отношений мыслимого и не-мыслимого, подвергнув сомнению незыблемость границы между предметом мысли и внешним миром, хотелось бы заняться дискредитацией пинка как критерия истины и как критерия реальности. А также присмотреться к двум видам немыслимого: к немыслимому, возникающему изнутри, когда машина абстракции работает на холостом ходу и мы предаемся праздным языковым играм, то есть к парадоксу и нонсенсу, и к такому немыслимому, которое безусловно является сущим, которое даже живее всех живых, как евхаристия, но при этом абсолютно немыслимо. Такое немыслимое именуется уже не нонсенсом и не парадоксом, а абсурдом.
* * *Итак, присмотримся вновь к объективному внешнему миру и к столь же объективному мышлению, которое именно потому полагается истинным, что свободно перемещает свои объекты из пространства мыслимого в пространство сделанного и обратно. Присмотримся к ним, как к двум частям производственного процесса, как к семиозису и его расширению.
Это едва ли не самый загруженный участок возобновления человеческого в человеке. В нем, в частности, рождается и таинство объективности, ничуть не менее таинственное, чем таинство евхаристии. Объективность, конечно же, представляет собой как минимум двухместный предикат, похожий, например, на отношение старшинства (можно быть старше лишь относительно кого-то).
Признавая нечто объективным, познающий явно или неявно вкладывает в такое признание следующие моменты.
1. Объективность соответствующей данности мира, что решительно отличает объективное познание, например, от настроения. То есть объективность определяется конституированным объектом как принципом, объект же в свою очередь есть хорошо различимое встречное сущее, поддающееся схватыванию, чего нельзя сказать о «смутной объективности» других семиозисов.
2. Устойчивость объективного: они, объекты, как бы ожидают посещения со стороны актуализованного восприятия конкретного субъекта и после посещения продолжают «у себя вовне» хранить внутреннее, код доступа, будучи как бы посольством, дипломатической миссией, расположенной далеко за пределами собственно мыслимого. Объективность в том, что здесь, в этих форпостах, в дипломатических миссиях, инородных мышлению, действуют те же законы, что и в метрополии.
3. Момент, тесно связанный с предыдущими, то есть со стабилизированной объектностью встречного сущего. Под объективностью понимают независимое подтверждение: то, что объективно, может быть, конечно, помыслено субъектом, и при этом обнаруживается (должно обнаружиться), что, помимо данных мысли, дела еще действительно обстоят так, как если бы предметы внешнего мира, находящиеся в расширении, вовне уже определенного сложившегося мыслимого, вдруг обнаружили ту же фигуру, которая принесена с собой мыслящим, и факт тождественности, совпадения образцов, факт независимого подтверждения произвел бы неизгладимое впечатление на познающего. Под воздействием впечатления познающий получил бы право сказать: да, это объективно. Это объективно так, а стало быть, это истина, пред которой бессильны эмоции (то есть все остальные, кроме специфического воздействия на преобразованный сенсориум, заставляющий воскликнуть не «Мне хорошо!» и не «Мне плохо!», а «Мне объективно!»).
Три основных момента и образуют гирлянду, иллюминация которой является таинством объективности. Вот мыслящий, завершив обработку предмета в мышлении как предмета мысли, выходит во внешний мир, в сферу рукоприкладства и пинания – и обнаруживает здесь (неизменно застает) нечто, упорядоченное в качестве предметов и объектов. При этом ему, мыслящему, становится объективно. Только что он был среди предметов, которые нельзя пнуть, среди предметов мысли, и вот теперь и на практике обнаруживаются они же. Теперь они явно немыслимые, но как похожи на мыслимые! В дополнение к этому очевидному сходству еще и бонус объективности: можно сколько угодно пинать и рукоприкладствовать – просто чудо из чудес. Обнаруживаемые во внешнем мире подтверждения логических конструкций могли бы походить на приключения Алисы в Зазеркалье, если бы вдруг оказалось, что в этом внешнем мире все то же самое, хотя он должен быть антимиром по отношению к покинутому Алисой (или нами) компактному пространству мысли. Поневоле возникает вопрос: а так ли уж различаются эти два мира? Действительно ли в гносеологии должна быть своя внутренняя теология, требующая возблагодарить Бога за то, что мне объективно? И всякий раз, когда мне объективно.
Насколько предмет мысли, нечто мыслимое, не похож на свой пинаемый и несдвигаемый коррелят из внешнего, действительного мира, это мы знаем из главных тезисов европейской метафизики: Декарт, Спиноза, Юм и Кант, каждый из них по-своему, не жалея красок, описывал глубину пропасти между «действительным миром» и его мыслимым образом. Однако, начиная с Шеллинга и Гегеля, а по-настоящему лишь с Маркса, поскольку Гегель избегал останавливаться на роковом моменте непоправимого различия, предпочитая вместо этого изобличать скудость простого наличного бытия, постепенно начинает выстраиваться континуум, позволяющий заподозрить чрезвычайную близкородственность и взаимозависимость «обитателей» двух миров. При этом особенно важно было разобраться с заблуждением, согласно которому обитатели внешнего мира, объективные вещи, суть старшие родственники, являющие собой образец для подражания всем предметам мысли, «братьям меньшим», и чем лучше эти меньшие подражают, тем выше котируются (то есть им тогда приписываются и объективность, и истинность). В действительной взамоозависимости, похоже, нет ни старших, ни младших. Обратимся к Ницше, к его довольно известному фрагменту из «Воли к власти»: