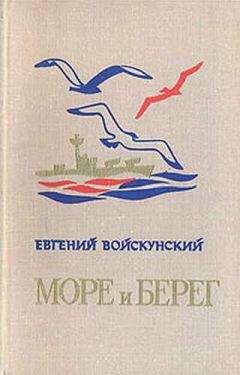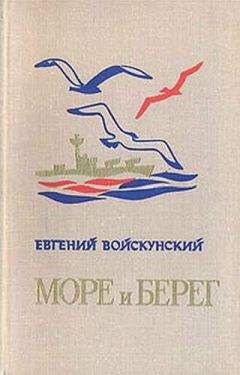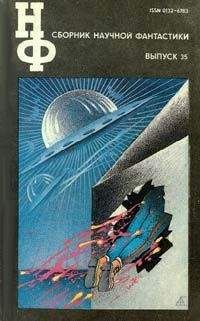Евгений Войскунский - Кронштадт
Виду Козырев, конечно, не подал, поздравляя Федора, но в душе позавидовал. В училище он готовил себя к службе на надводных кораблях, мечтал об эсминцах, а теперь вот пожалел, что не пошел в подводники. Огромную мощь торпедного оружия ощутить бы в своих руках! Ах, ты ж, господи, в Данцигскую бухту, к немецким берегам, чуть ли не к проливам уходят лодки второго и третьего эшелонов!
Положим (трезво осадил он себя), никто бы не назначил меня после окончания училища — с подмоченной-то анкетой! — на подплав. Куда там… Не угодно ли на тральщики, товарищ лейтенант За-Кормой-Не-Чисто? Но теперь-то, когда неприятности позади… теперь можно бы проситься на подплав… Фантазия, фантазия! Командира надводного корабля не отпустят в разгар войны переучиваться на подводника. Нечего тешить себя несбыточной мечтой…
После сводки пошла классическая музыка. Теперь стали по радио больше классики передавать. Стук метронома, заполняющий пустые часы, и классика. И тревожные сводки…
«Средь шумного бала, случайно», — начал чей-то (не Козловского ли?) мягкий тенор — и тут же этот голос оторвал капитан-лейтенанта Козырева от земли, а вернее, от металлической корабельной палубы и унес в горние выси, в туманные сферы, где, строго говоря, нечего было ему делать.
…В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты…
Поистине твои черты покрывает тайна, непостижимая для меня (думал Козырев). Ты моя загадка, мое мучение… не хочу больше вспоминать о тебе, сгинь!
— Тут битая ничья, — сказал Козырев, поднимаясь из-за стола.
Он вышел из кают-компании и взялся было за ручку двери своей каюты. Помедлил однако. В пустом освещенном коридорчике будто таилось нечто недосказанное. Козырев прошел в глубь коридора, приотворил дверь Слюсаревой каюты, спросил в темноту:
— Спишь, Гриша?
— Нет, — ответил Слюсарь. — Заходи.
Козырев нащупал выключатель, зажег свет. Слюсарь, жмурясь, сел на койке. Он был в сером свитере, в шерстяных носках. Черная грива волос стояла дыбом, он стал приглаживать ее ладонями.
— О чем задумался, друг заклятый?
— Ты, наверно, хотел, чтоб я переживал взыскание? — сказал Слюсарь с усмешечкой. — Не-ет, мне это ни к чему. Бабу одну вспоминаю. Как мы с ней в Ростове, понимаешь… Хорошая была баба. Вот такой формации, — показал он руками.
Козырев задумчиво смотрел на него:
— Не пойму, почему ты любишь себя выставлять хуже, чем ты есть?
— Я разве нехорошее сказал? Ты за баб разве не думаешь?
— Ладно. — Козырев шагнул к двери. — Не буду тебе мешать. Вспоминай дальше.
— Погоди, Андрей! Сядь. Поговорить надо.
Козырев сел на стул. Осенний дождь вкрадчиво шуршал за иллюминатором, задраенным броняшкой. Снизу, из носового кубрика, доносились невнятные голоса и смех, стук доминошных костей.
— Говоришь, я выставляюсь хуже, чем я есть, — сказал Слюсарь. — Как это понимать?
— А так и понимать. Поступки у тебя такие, будто нарочно хочешь напороться на неприятность.
— Поступки, значит. А на самом деле я хороший?
— Ну, не знаю. — Козырев усмехнулся. — Штурман ты хороший.
— Штурман я хороший, — кивнул Слюсарь. — А человек плохой.
— Брось, Гриша.
— Плохой, — настойчиво повторил тот. — Завистливый. Тебе в училище завидовал. Я ведь огородным пугалом выглядел рядом с тобой — красивым, умным, удачливым…
— Хреновину несешь, — с досадой сказал Козырев, поднимаясь.
— Нет, дай уж мне сказать. Сиди! Я, если хочешь знать, за тобой тянулся… Ну, за такими, как ты… Недолюбливал, но тянулся. Заседание комитета помнишь? Ты тогда сидел пришибленный, гордый нос опустил — мне это было приятно. Хороший человек посочувствовал бы, а? Верно? А мне приятно было. Я и проголосовал тогда — сам помнишь… А на другой день — помнишь? — пришел к тебе, сам себя силком приволок, можно сказать… Ты что мне ответил? Таким презрением облил, что ни в какой бане не отмыться…
— Ты прав. Я не должен был так… — Козырев подошел к столу, постучал по нему пальцами. — Но и ты мог бы понять мое состояние. Только об одном я думал тогда: за что? За что они меня долбают, ведь я не виноват ни в чем…
— Вот-вот. Это мне и не давало покоя. Я-то был виноват перед тобой.
Они помолчали. То, что прежде раздражало Козырева в Слюсаре — вот это странное, не вяжущееся с бывшим ростовским беспризорным чувство вины, — теперь заставило задуматься. Пожалуй, это не пустые слова, как казалось раньше. Когда от тебя зависит судьба не судьба, но многое в жизни другого человека… твоего ближнего, как говорили когда-то… и ты своим поступком, пусть даже невольно, ему подгадил, значит, ты виноват. Ты должен ощутить свою вину, если ты человек, а не скотина. Это — именно человеческое… Гриша живет с чувством давней вины — надо это понять… А я? Почему меня не покидает ощущение, будто я виноват перед Надей? Что-то недоглядел, в чем-то ее не понял… Не понял вот что (впервые пришло ему в голову): как потрясла Надю смерть матери. Мать умерла, не простив ее. А я, вместо того чтоб помочь, понять… ударился в амбицию, оборвал отношения… олух царя небесного…
— Послушай, Гриша, — сказал он. — Мы были жестоки, мы плохо друг друга понимали… Но вот уже два года вместе плаваем. Больше года воюем. Мы уже не заносчивые сопляки, какими были в училище. Мы теперь стреляные, битые. Научились ценить друг друга. Разве не так?
— Так.
— Значит, пора забыть ту историю. Подвести черту. Давай простим друг другу старые обиды. Я — тебе, ты — мне. Полное взаимное отпущение грехов. Устраивает?
Слюсарь смотрел на него исподлобья:
— Снисходишь?
— Да нет же! — воскликнул Козырев. — Я же от чистого сердца…
— Ладно, Андрей. Пусть так… Подведем черту…
— Вот и хорошо. Вот и поговорили по-мужски.
— Поговорили, — кивнул Слюсарь. — А с «Гюйса» я уйду.
— Куда уйдешь? — удивился Козырев. — Да ты что? Не горячись, Гриша. Сам же виноват, что сорвалось назначение дивштурманом.
— Сам. Я и не виню никого.
— Поплаваем до ледостава, а там — начальство смягчится, и снова можно будет тебя на продвижение…
— Поплаваем до ледостава, а там — уйду на катера, — сказал Слюсарь.
На гауптвахте он отсидел вместо десяти суток всего двое с половиной: «Гюйсу» было приказано приготовиться к выходу в море. На подготовку оставалось меньше суток, а работы на корабле, только-только покончившем с ремонтом, было невпроворот. Слюсаря срочно освободили, он пришел заспанный, недовольный, ворчал: «Одно спокойное место в Кракове — губа, а уже и там покоя не дают…» Съел за ужином две тарелки пшенки, заправленной мясными консервами, съел банку рыбных консервов из своего доппайка (хоть и спокойно было на гауптвахте, да не сытно) и отправился устранять девиацию магнитного компаса. На исходе ночи поспал часика два и сел корректировать карты. Потом со штурманским электриком занялся проверкой лага…
Тральщик был от киля до срезанной мачты наполнен звоном, стуками, воем запускаемых, прогреваемых, проверяемых механизмов. Иноземцев не вылезал из машинного отделения, ему и обед туда притащил заботливый вестовой Помилуйко. Боцман Кобыльский носился по верхней палубе, готовил к походу свое хозяйство, ругался с минерами, схлопотал выговор от Балыкина за употребление нехороших слов.
Перед обедом старшина группы радистов позвал Балыкина в радиорубку, и Балыкин, несколько обомлев, слушал передаваемый из Москвы указ «Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии». Дослушав до конца, в задумчивости вышел из радиорубки. Шквалистый ветер бил в лицо, трепал поднятый на фале красный флаг «наш», означающий приемку боезапаса. Балыкин прошел на ют, понаблюдал за разгрузкой машины-полуторки, стоявшей на причале у самой сходни. Галкин распоряжался, покрикивал, артиллеристы споро таскали ящики со снарядами.
Пришел Козырев. Он уходил в ОВР на инструктаж и вот вернулся с курткой-канадкой, перекинутой через руку. Взбежал по сходне, козырнул кормовому флагу, позвал Балыкина к себе в каюту.
— Вот, выбил! — Козырев, радостно-возбужденный, развернул и показал Балыкину новенькую канадку, подбитую мехом каштаново-золотисгого цвета. — Выцарапал у вещевиков! Ни за что не хотели выписывать, стервецы! Говорят, срок у той еще не вышел. Да какие могут быть сроки в боевой обстановке, говорю им. Осколком, поймите, порезало ту канадку. Ничего не знаем, говорят, есть сроки, а срок еще не вышел. Ну, я им выдал! Ну, выдал! Так вот, Николай Иванович, — сказал, приостыв немного от страстей вещевого снабжения. — Выход в двадцать два. Проводим лодку Щ-372 — опять толоконниковскую! Видно, господь бог через штаб КБФ связал нас одной веревочкой.