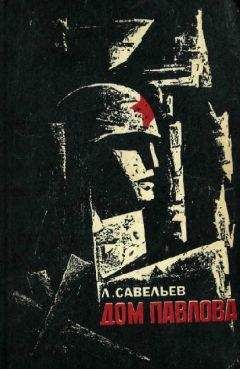Дмитрий Медведев - Сильные духом (Это было под Ровно)
— Две тысячи марок. Заплатишь доктору.
— Ладно, — сказал Клепушевский. — Вы только дайте знать, если будете уходить из Гуты. А то приду, а вас нет.
— Ты, папаша, присмотри за нашим товарищем. Чтобы все как следует! — напомнил старику Пастухов после того, как они попрощались.
— Как своего сберегу, — успокоил старик.
В Гуту-Пеняцкую Пастухов пошел один, оставив партизан в лесу. В селе оказались гитлеровцы, двенадцать человек. Это был персонал аэромаяка, находившегося поблизости. Приехали они за курами. Пастухов дождался, пока фашисты уберутся, затем разыскал Войчеховского и, договорившись с ним, отправился за товарищами.
Войчеховский сам предложил партизанам остаться в Гуте. Он обещал всяческую помощь, требуя взамен одного — поддержки в случае нападения бандеровцев. Но это и так подразумевалось.
Прием, оказанный Крутикову и его друзьям в Гуте, был таким же сердечным, как и в первый раз. Партизан разместили по хатам. К Крутикову позвали врача-еврея, скрывавшегося здесь от гитлеровцев. Узнав от Крутикова о раненом, который остался на хуторе, врач забеспокоился. На другой же день Войчеховский снарядил двух крестьян, которые привезли Клепушевского.
А через несколько дней в Гуте стало известно, что старик Павло и его жена убиты и сожжены в своем доме.
Трагическая участь постигла и пана Владека, товарища Владека, предоставившего свой кров партизанам. Старого лесничего бандеровцы заперли в его доме и дом сожгли.
Двадцатого января, как и намечалось по плану, Пастухов и Кобеляцкий были отправлены во Львов. Они взяли письмо от Войчеховского к его отцу, жившему на Жолкеевской улице, и еще несколько адресов.
Жители Гуты-Пеняцкой вышли провожать разведчиков. Маленький, щуплый, лишенный всякой выправки Пастухов, одетый к тому же в городское, модного когда-то покроя пальто, подаренное Войчеховским, производил впечатление небогатого служащего. Он казался нелепым на подводе, рядом с вооруженными крестьянами в тулупах и Кобеляцким, одетым в старую немецкую шинель. Пастухов снял шапку и махал ею до тех пор, пока сани не скрылись за деревней.
Дроздова и Приступу после боя под Сиворогами никто не видел. С тяжело раненной Женей, которую они несли на руках, партизаны ушли от преследователей и скрылись в лесу.
Кобеляцкому, ближе всех находившемуся от них, Дроздов что-то прокричал, но понять можно было только то, что он назначает встречу, но где, в каком месте, Кобеляцкий не разобрал. Очевидно, в Гановическом лесу.
— Нет, — сказал Крутиков, которого нередко теперь упрекали в том, что тогда, в лесу, он не принял мер к розыску отбившихся товарищей, — нет, дойти туда они не могли.
Но Дроздов и Приступа дошли. Дошли одни, без Жени, которую похоронили в лесу.
Тогда же, в лесу, они набрели на крестьянина, который приехал за хворостом. Он привез их на хутор, укрыл и спустя день проводил в дорогу.
Они шли, почти не разговаривая. Приступа понимал, что утешать Василия не надо, как незачем и высказывать сочувствие горю друга. Они шли упорно и тяжело, с короткими остановками, почти без пищи, и верили только в одну возможность — что они дойдут.
Но, добравшись до Гановического леса, они поняли, что весь проделанный ими путь бессмыслен — группы здесь не было. Не появилась она ни на вторые сутки, ни на третьи… Что оставалось делать? Возвращаться?
Но возвращаться невозможно. Достичь заветной цели — и отступать… Они думали, что, может быть, и придет сюда весь отряд. Как знать!
И Приступа с Дроздовым пришли к простому выводу: надо действовать самим.
Они решили для начала осесть в одной из деревень. Это удалось сравнительно легко. Хозяин оказался преданным человеком.
Вторым шагом — самым опасным — было установление связей, прощупывание новых знакомых, подготовка. В этом смысле их хозяин явился плохим помощником: ничего не мог сказать толком о ближайших соседях, будучи, как это поняли партизаны, занят только самим собой. «Вот народ! — удивился Приступа. — Неужто все такие?..»
Но тот же хозяин предоставил свою хату для первого собрания сколоченной ими группы. Присутствовало семь человек, включая Дроздова и Приступу. Единодушно решили собрать еще человек пятнадцать и уйти в лес партизанским отрядом.
Так и получилось.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Белая, пустая, холодная равнина. Ночью она кажется серой. Мы идем и идем, и уже розовое зарево восхода занимается за спиной. Мы ушли далеко вперед. Перед нами село Нивице. Стехов измеряет по карте: до Львова по прямой шестьдесят километров. Близко.
Нивице встретило нас тишиной.
Где сейчас наши товарищи? Найдем ли мы Крутикова в Гановическом лесу? Где Кузнецов?
— Все хорошо, — говорит Стехов. — Все очень хорошо. Завтра мы будем у цели.
Подходит Марина Ких.
— Теперь-то вы меня отпустите? Ну, я не говорю сегодня, а вообще? Жалею я теперь, что пошла в радистки, — сетует она.
С Лукиным и Стеховым заходим в первую хату.
Хозяин, высокий, крепкий старик, смотрит на нас удивленно, но впускает без слов. Кроме него, в комнате молодая женщина, лицо у нее испуганное. Первое, что бросилось мне в глаза, черный диск репродуктора на стене.
— Работает? — показывая на репродуктор, спрашиваю хозяина.
— Работает, — отвечает он, продолжая разглядывать нас. — У нас и школа работает, и церковь.
— Немцы есть?
— Сейчас никого.
— Ну а вообще как с ними живете?
— Всяко бывает.
— Часто они сюда наведываются?
— Приезжают по три-четыре человека. Вывозят из лесу древесину.
За окнами брезжит рассвет, похожий на сумерки.
Последнее время мы шли с непрерывными боями. Села встречали нас стрельбой. Враг всячески препятствовал движению. Неужто на этот раз нас оставят в покое?
Я вызвал командира первой роты Ермолина.
— Ты все-таки, товарищ Ермолин, поставь дополнительные посты. На всякий случай…
Лег, но не могу заснуть. Уже больше месяца я болен. Последние дни совсем не поднимался с повозки. Сейчас боль в спине усилилась, не дает спать. Сумерки редеют; снег, недавно еще серо-стальной, плотной пеленой устилавший улицу, теперь, когда рассвело, становится белым и потому кажется еще более холодным. Не в силах больше лежать, я встал и пошел проверить посты.
На улице тихо. Сразу же за огородом простирается открытое поле.
И вот на сером фоне снежного поля, сливающегося с небом, я замечаю движущиеся вдали цепочкой черные силуэты людей. Что за люди? Может быть, это Ермолин расставляет посты?
Нет, это не развод! Люди идут цепью, а не группой. Идут к селу. Я припал к земле, чтобы лучше рассмотреть идущих.
Вот они совсем близко. Неужели гитлеровцы?
— Кто идет?
Молчание.
— Кто идет?
— А ты хто? — доносится голос.
— Я командир.
— Ходы сюды!
Выхватываю пистолет. В ту же секунду раздается автоматная очередь — одна, вторая. Даю несколько выстрелов — вижу, как кто-то упал. Еще один выдвигается вперед. Дает очередь. Мимо. Я успеваю выстрелить. Автомат умолкает.
Слышу — наши открыли огонь. Но что делать мне, как выбраться? От врагов я в пяти метрах, от своих — в двадцати.
Стреляют и те и другие. Пули вокруг меня, одна сбивает шапку. Я плотнее ложусь на снег. Если ползти, враги заметят и начнут стрелять; да и свои откроют огонь, увидев, что к ним приближается человек…
Вдруг чувствую — кто-то тянет за ногу. Поворачиваюсь — человек в немецкой каске. Решив, что я мертвый, он старается снять с меня меховые унты. Стреляю в упор и отдергиваю ногу.
Стрельба разгорелась вовсю. В петлицу моей шинели попала разрывная пуля. Пробую кричать:
— Прекратить огонь!
Слов не слышно. Где-то далеко строчит пулемет, рвутся гранаты, мины.
— Прекратить огонь! — кричу изо всех сил. — Это я, Медведев!
Услышали! «Прекратить огонь… прекратить огонь…» — прошло по нашей цепи.
Под ливнем вражеских пуль я отполз к своим. У плетня меня подхватили.
— Вперед! Ура!
— Ура! — разносится вокруг. Подхватываемые, как ветром, какой-то могучей силой, мы устремляемся на врага.
Шевчук, Струтинский, Новак и Гнидюк с группой бойцов из комендантского взвода врезались во вражескую цепь и в упор расстреливают неприятеля.
Приютившись за плетнем, бьет по черным фигурам Коля Маленький.
Противник отступает. Шум боя становится глуше.
Я направляюсь в хату, где расположилась санчасть. Там полно народу.
— Где доктор?
— Здесь! — весело кричит Цессарский.
Люди расступаются, и я вижу, что Цессарский полулежит на полу, держа в руках расколотую колодку маузера и вытянув забинтованную ногу со следами крови. Рядом с доктором лежат другие раненые. Над ними хлопочут сестры. В ответ на мой укоризненный взгляд Цессарский оправдывается:
— Я не покидал санчасть. Просто фашистам удалось сюда заскочить. Ну мы их и выперли. — Он показывает на свой маузер с оттянутым назад затвором.