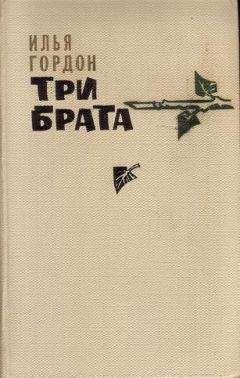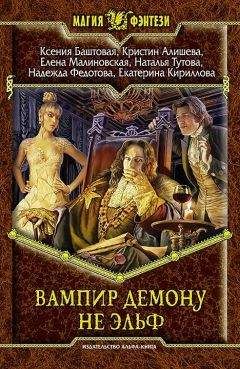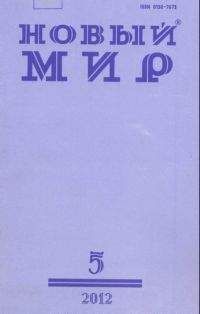Михаило Лалич - Избранное
— А про других ты спрашивал?
— Я ее не видел, только слушал ее причитания и из них узнал, что произошло. Сказала она и кто их выдал: трактирщик из Требалева, Иванович Меденица и поп Савва Вуксанович. Окружил их Любо Мини? с колашинскими четниками, все как один негодяи отборные — жандармы, полицейские, тюремщики и пьяный сброд. Наших оружие подвело — то ли у них масло замерзло в затворах, то ли боеприпасы отсырели в пещере, где они прятались. Вероятнее всего второе, потому что, гляди-ка, Паун застрелился из револьвера, а Бранко, раненый, держался до последнего — вокруг него валялось двадцать две стреляные гильзы. Похоронили их на Драговинском лугу, где-то над Требалевым…
Я двинулся к дому — как это ни мучительно и ни тяжко, но я должен был объявиться и узнать, что сталось с нашими товарищами. Качак за мной. Движемся и поневоле замедляем шаг — я бы охотно пропустил его вперед, но он не спешит, боится первым узнать то, что нам приготовлено. Остановились под окном. Замолкли причитания, слышно лишь, как качается люлька. Мы медлим, тут женский голос в доме спрашивает:
— Ты что, устала?
Другой голос отвечает:
— Нет, но на сегодня хватит.
— Не хватит. Раз над могилой запрещают голосить, хоть здесь выплачем горе до дна, ночь длинная.
— Надорвала я себе сердце этим плачем. Одно и то же твердим, как только ты выдерживаешь это?
— А ты теперь про других рассказывай. Передохни — и заводи потихоньку. Тех тоже надо помянуть, нельзя их забывать. Уж это они по крайней мере заслужили.
И вот затягивает плакальщица новую песню, протяжная и тихая, она постепенно набирает силы и складывается в слова. Плач был обращен к несчастной девушке, Пауновой невесте, в нем говорилось о том, чтоб не надеялась она: другая отняла ее милого, в черный дом увела, в мрачный дом без окон и дверей, без фитилька и без лампочки, и там затворила его. Но и на том свете невозможно представить новоселье без сватов… Голос дрогнул, взвился, словно бы перехваченный судорогой смеха, — и мне представилось, что так она насмехается над вывернутым наизнанку, потусторонним празднеством и над злой судьбой, которая оборвала безвременно молодость. Теперь плакальщица обращалась не к девушке, а к Бранно, любимому дядьке Пауна, она просила его собрать сватов для племянника, Паун достоин того, чтобы сватов ему собрать, лучших сватов, какие только найдутся, да и выбрать их есть из кого, всех товарищей его пусть возьмет в сваты Бранко, чтоб никого не обидеть, не забыть. Очень трудно выбрать старшего свата, потому что много между ними есть испытанных, нелегко между ними самого лучшего указать.
… Может, Йована Полянина
посадить
сватом славным,
героя без укора,
но закрыло тучей темной
его кровлю,
а на двор его слетел
ворон черный,
ворон черный слетел
и остался,
продолбил ему шлем
своим клювом,
навсегда тенью черной
от крыльев
заслонил он от Пауна
брата…
… Или, может, учителя Ягоша
пригласит дядька Бранко
племяннику —
опустела без Ягоша школа,
дети малые
ждут его, плачут,
бросил Ягош сирот
без надзора,
все глаза за ним проплакали
родные…
… Или, может, Младженова Милана,
председателя нашего,
Бранко и сваты посадит
Пауну?
Посекла Милана
сабля острая,
отделила героя
от братьев…
… Или, может, Вучича из Подбишча
приведешь ты сватом,
о мой Бранно?..
— Не может быть, чтобы все они погибли, — в ужасе воскликнул я. — Она голос пробует, мнится это ей; крикни, чтоб прекратила!
— Постой, послушаем, что дальше будет, — остановил меня Качак. — Если она голос пробует, так она и тебя в конце концов помянет.
Плакальщица между тем продолжала перечислять достоинства сватов:
А невесте в подружки —
одно к одному —
ты страдалицу возьми
Евру Ягошеву —
дети малые се без матери
побираться пойдут
теперь, несчастные.
А за свата воеводу,
ты возьми, Бранислав,
Милосава Вучичева,
любимца нашего,
за себя отомстить он оставил
друзей,
земля пухом теперь ему кажется,
темнота в могиле
просветлеется…
Тут я рухнул на землю, не было больше сил держаться на ногах. Не замечаю, что земля холодная и липкая, не чувствую себя, словно меня и на свете нет. Только слух насторожен и обострен: я все еще тешу себя слабой надеждой, что черное это наваждение рассеется и не подтвердится. А тем временем плач с ожесточившейся мрачной решимостью перебирает все новые имена:
… Знаменосцем возьми ты, Бранко,
дорогого нашего Янко,
высоко летал сокол Янко,
не его ли честь
похоронное коло вести?
… Светозара Иованова
ты кумом возьми,
ну-ка, кум, повесели
ты нас!
Неразлучен он с Пауном был,
вот и снова их
насовсем свела
сырая земля.
Кликни Джорджия и Милана
Младеновича, позови ты с Крнье Еле
Мака Янковича,
уж как станет Мак петь да плясать,
разойдись, душа благородная,
коли жизнь тебя весельем
не баловала.
И Мията, командира,
приведи сюда в придачу —
много наших братьев пало
на реке той,
на Мораче…
Тут Качак молча подошел ко мне и оторвал от земли. Откуда-то сила у него взялась, оттащил он меня тропой через сад к дороге. Мы двинулись к Гротуле, и снова нам показалось, что кто-то чернеет спинами, залег. Прокрались по мосту — то ли заснули часовые, то ли нет их совсем. Пересекли Черное Поле, поднимаемся взгорьем к Сенокосам. Ни он, ни я ни словом не обмолвимся, да и о чем говорить? Клокочет, вздымается Тара — словно все те черные всадники и сваты запрудили реку конями, разом выйдя из-под земли через пещеры и расселины. Хрипят, рыдают, призывают живых, ропщут. Полощутся за ними на ветру окровавленные рубахи и знамена, под рубахами зияют раны — свинцом разможженные ребра, растерзанные печени, в глотки вдавленные. Поникли скорбно их головы, пулями изуродованные, пошатываясь, скрываются они в подземных сумерках на той стороне реки, между тем как толпы других, подпирая их, спешат выйти на божий свет. В действительности это туманом окутало реку, и в реве Тары все поплыло у меня перед глазами, смешались долины и горы, так что невозможно разобрать, где что находится. И только в высоте, выделяясь черной заплатой во мгле, обрисовалась перед нами Палешкая гора и закурилась вершина Белогривца, вознесенная к облакам. В бледном свете луны сошлись голова к голове Синявина и Мучница, и все вдруг распределилось по местам, внося порядок в мир.
— Не могу я поверить, что все они погибли.
— Разве был бы мост без часовых, если б наши не погибли? — возразил Качак.
— Если так, то это самая черная ночь в моей жизни.
— И в моей, — ответил Качак. — А ну-ка посмотрим, кого она не назвала: тебя, Ненада, Аралича, бистричан… Кто еще?
— Бистричан — две группы, потом Лале Сломо с Милорадом, и Юшкович, и Радомир, младшие Дашичевы, Бакоч, Зария, Смоловичи, Васовичи. Наберется еще наших встречать следующий снег…
— Я вот думаю: что-то нас ждет по ту сторону Беласицы?.. Может, и там побоище было, что-то ноги идти отказываются. Поддержи-ка меня!
Он ухватил меня за рукав, но не устоял и опустился на землю. Потом рухнул навзничь с удивленно открытым ртом. Попробовал было облокотиться на правую руку, потом на левую, но так и не встал, словно надумал поваляться здесь на лугу. Я приподнял его, помогая ему сесть, однако он снова растянулся на земле и выдохнул:
— Нет больше сил. Оттащи меня вон до того стога и ступай, куда знаешь.
Я сгреб его с земли и понес на руках, не очень он был тяжелый, только винтовка и ранец заспинный мешают. Притащил к стогу, подоткнул под него охапку сена, чтобы не промерз; дал ракии губы смочить, потер виски и затылок. Ничего не помогает — нет у него сил даже, чтобы мне на закорки сесть.
— Пройдет, — прошелестел он губами. — Или пройдет, или эта жизнь не стоит ни гроша.
Мысли у него четкие и быстрые, сознание ясное, слова не путаются. Мы переждали еще минут с десять, а может, и больше, и вдруг он как-то разом ноги под себя подобрал, встал на колени и поднялся, преодолевая слабость и боязнь снова не удержаться и рухнуть. С одной стороны я поддерживаю его под руку, с другой — он опирается на винтовку и делает осторожные, робкие шаги, широко расставляя ноги. Стонет, часто отдыхает, скрежещет зубами и снова двигается. Я опасался, что он не устоит, но постепенно он расходится и отстраняет мою помощь. Так мы поднимаемся еще выше, отпечатывая на снегу след, и проходим краем озера, уже скрытого подо льдом. С рассветом мы были на вершине, и Качак возгласил: