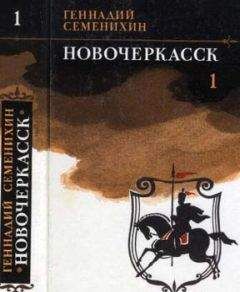Геннадий Семенихин - Новочеркасск: Книга третья
— Согласен. За товарищескую взаимопомощь, за войсковую выручку ничего не жалко. Угощу обязательно…
К вечеру пришла из полка аэродромная полуторка, и солдат, сидевший за баранкой, лихо доложил Бакрадзе:
— Товарищ старший лейтенант, командир прислал за вами. Докладывает рядовой Кусков.
— Маладэц, Кусков, — улыбнулся Вано. — А как там мои ведомые?
— Все до единого возвратились.
— А самолеты?
— Побиты как следует, но их в ПАРМе[2] к завтрашнему дню залатают, и можно снова в бой.
— Да, — философски заметил грузин. — Этих «снова в бой» до Берлина еще не счесть.
И летчики стали прощаться с разведчиками. Несколько захмелевший Георгий Смешливый неожиданно пустил слезу:
— Эх, Венька, Венька, кто бы из нас мог подумать, что мы с тобой этак встретимся в этом водовороте. Если бы какой режиссер в киношке все показал, едва ли бы кто поверил.
Они расцеловались, и Веня вслед за Вано Бакрадзе направился к стоявшей под сенью кустов видавшей виды аэродромной полуторке. Поставив ногу на туго накачанный скат, Якушев обернулся. Увидел, что Георгий неподвижно стоит у землянки, приветственно подняв руку, словно гранитный памятник. Подпрыгивая на полевой кочковатой дороге, полуторка понесла их к аэродрому.
Веня видел, как все меньше и меньше становится этот живой памятник. Он так никогда и не узнал, что ровно через трое суток его друг детства Жора Смешливый пошел за линию фронта брать контрольного пленного и никогда больше над израненной русской землей не прозвучал его сипловатый голос, потому что с задания он не возвратился.
Славлю тебя, стальной трехлопастный винт, несущий самолет Ил-2 по заданному маршруту. На каких бы оборотах ты ни вращался и куда бы ни уносил экипаж — к цели или от нее, к обжитому аэродрому, в тихое голубое небо или сквозь режущие его зенитные разрывы, черный круг от твоего вращения всегда вселяет уверенность в летчика, видящего его сквозь переднее смотровое стекло кабины.
Впрочем, почему только черный? Он и белесым, и светло-серым, и нежно-зеленым бывает, если голубеет небо над твоей горбатой кабиной. Важно, чтобы он был, ибо только тогда спокойно и ясно на душе у пилота, из какой бы беды он ни выходил.
Утро этого августовского дня было торжественным и даже парадным на раздольном аэродроме, где базировался полк Александра Климова. Просинь высокого неба, доверчиво распахнувшегося над пустыми капонирами, радовала глаз своей чистотой. Твердая земля, прогретая среднерусским солнцем, звоном отзывалась на шаги летчиков, спешивших на построение. И когда замер строй и был принят рапорт начальника штаба, Климов торжественно проговорил, нарушая все уставные формы обращения:
— Сделайте в своей памяти зарубку, ребята. Сегодня завершено историческое Орловско-Курское сражение, мы возвратили Родине Белгород, Орел, Курск и десятки других городов, не говоря уже о сотнях селений. До сих пор мы перелетали на новые аэродромы на восток, и только на восток, оставляя наши родные города и села, и, скажу прямо, тяжелая была у нас доля. И вот теперь мы впервые за всю войну должны перебазироваться на новый аэродром, а он на сто с лишним километров западнее этого, нами обжитого. Наш наземный эшелон уже орудует на новой точке. Саперы прошли, таблички свои мудрые «Мин нет» расставили, а сейчас солдаты нашего БАО землянки, брошенные немцами, в порядок приводят, зловонный дух завоевателей из них выветривают. Одним словом, по самолетам, орлы!
Прочихались в капонирах могучие «илы», а потом их надежные моторы запели на одной басовитой ноте победную свою песню. Подпрыгивая на опаленной августовским ветром кочковатой земле, стал выруливать и штурмовик старшего лейтенанта Бакрадзе. Включив самолетное переговорное устройство, грузин озабоченно спросил:
— Веня, как там наше звено?
— Ведомые вырулили, командир, и стоят в правом пеленге на заданных интервалах.
— Тогда по газам!
Самолеты, обдав тугим гулом окрестность, дружно ринулись в голубое пространство августовского дня навстречу солнцу, успевшему опалить среднерусскую землю.
После перелета Якушев записал в своем блокноте: «Так я ощутил наше наступление».
А потом менялись аэродромы, села и города, попадавшиеся в боевом полете на маршрутах. Огромная радость победы захлестнула летчиков, воздушных стрелков, техников и всех авиаспециалистов климовского полка. Сам Климов ходил не сутулясь, как раньше в дни, когда гибли летчики и самолеты, а гордо выпрямившись, и в лексиконе у него на разборе полетов или предполетной подготовке появились прочно ужившиеся фразы: «Мой полк разгромит и эту цель», «Мой полк готов делать в сутки и по три боевых вылета», «Запаса прочности у моих орлов хватит до самого Берлина». Или, когда было у него на душе неважно, то, отбрасывая хлипкий чубчик со своего вспотевшего лба, он гневно выпаливал: «Я не позволю, чтобы кто-нибудь позорил мой полк».
Якушев, когда они были на аэродроме только вдвоем, однажды его бесцеремонно оборвал:
— Саша, брось фанфаронствовать, это я тебя как земляк, как казак прошу.
Климов сердито метнул на него взгляд, на его лице сквозь загар пробилась бурая краска, но вдруг он не только не пришел в ярость, но и рассмеялся:
— Послушай, Веня, а ведь ты действительно прав. Не буду, а то ты еще скажешь, что командир полка Наполеона из себя корчить начал.
— Наполеона не надо, Саша, — примирительно опротестовал Якушев. — Наполеон — это битый полководец. Его мой прадед Андрей Якушев вместе с казаками самого Платова до Парижа гнал. Ты лучше на Кутузова старайся быть похожим, если так хочешь повеличаться.
Они рассмеялись и, похлопывая друг друга по спинам, пошли вдоль капониров, в которых стояли «илы», готовые покинуть насиженный аэродром.
Шли дни и недели, и опять менялись аэродромы, села и города, дававшие временный приют летчикам климовского полка, у которых на картах, заключенных под целлулоидом планшеток, неизменно прочерчивалась одна только маршрутная линия: на запад!
Ветер победы! Как он сладок был после горьких дней отступления, как омолаживал лица многое повидавших воздушных бойцов, водивших теперь свои самолеты к цели с курсом в двести семьдесят градусов.
Это был курс не только к тем городам и селам, которые еще находились под властью фашистов, но и курс к еще далекому, но уже явственно осязаемому мысленным взором любого воина Берлину.
— Слушай, Вениамин? — грубовато спросил однажды командир полка Климов. — Ты умеешь держать язык за зубами?
— Спрашиваешь, — так же грубовато ответил и Якушев. — В свое время я даже и отцу не пожаловался на то, что ты мне на «ребячке» синяк под глазом поставил, а уж как допрашивали родители.
— Не дури, то же детская драка, а я тебе о серьезном хочу поведать.
— Поведай, — засмеялся Якушев. — Это хорошо, что в лексиконе у командира полка появилось такое нетипичное для штабной речи слово.
— Лексикон… Гм… — пробормотал Климов и почесал старательно выбритую щеку.
— А ты не знаешь?
— Откуда же, — вздохнул командир полка. — Мой жизненный путь тебе известен. Два курса сугубо технического вуза, в котором страницы любого учебника дышали лишь техническими терминами да полсотни, если не меньше, прочитанных книг. Немного Гоголя, немного Толстого, совсем мало Тургенева, «Челкаш» Горького, а дальше кабина самолета и приборная доска. Сам знаешь, какую академию проходит рядовой военный летчик.
— Не прибедняйся, — хмыкнул Якушев. — Ты даже мои рассказики почитываешь.
— Вот-вот, — засмеялся Климов и откинул назад светлую прядь волос. — Кстати, в последнем номере фронтовой газеты прочел твои три колонки: «Решение».
— Ну, так и что по этому поводу молвишь? — прищурился Веня и стал ревниво ожидать ответа.
— Ты это здорово завернул о том, как над целью зенитные осколки разбили у летчика плексиглас на фонаре и этот полуослепший летчик благодаря командам воздушного стрелка выполнил посадку. Скажи, а ты бы так мог, если бы это с твоим Бакрадзе случилось?
— Пусть лучше не случается, — улыбнулся Веня. — Бакрадзе для меня не только обожаемый командир, он для меня, как брат. Пусть глаза его сто лет видят, как у орла.
— Одобряю подобную преданность, — улыбнулся Климов. — Ну, а теперь скажи, что такое «лексикон», а то, не дай бог, кто из летчиков спросит, а я не знаю. Стыд-то какой.
— Словарный запас человека.
— А-а, буду теперь знать.
— Ну, а язык по какому поводу я должен держать за зубами, — спросил Веня, искоса взглянув на командира полка.
Худое лицо Климова, облитое розоватым послерассветным солнцем, было непроницаемым. Они медленно шли мимо самолетных стоянок, мимо нахохлившихся «илов», с которых мотористы вместе с чехлами, влажными от предрассветного дождя, сбрасывали и собственную сонливость. Климов вздохнул: