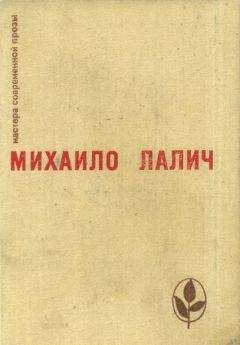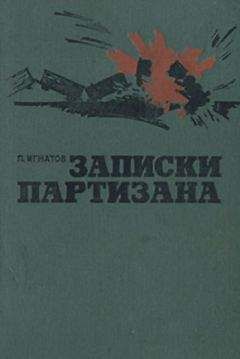Михаило Лалич - Облава
— А что такое?.. Кому нужен доктор?.. Опять кто-то ранен?..
— Ранен смертельно, и венские доктора не помогут!
— Кто?.. Уж не Лазар?
— Узнаете, не торопитесь, — и пришпорил коня.
Покуда они ругали его на все корки за то, что он не сказал, кто ранен, и гадали, кто пострадал и как, на шоссе показалась двигавшаяся им навстречу черная молчаливая кучка всадников. Пашко испугался, подумав, что это новая облава, что у него хотят отобрать мертвых, спрятать их куда-нибудь или осквернить. Вынув из кармана бумагу с подписью итальянского майора, он решил сослаться еще и на Филиппа Бекича, и на свидетелей, которые слышали и видели… Однако вскоре выяснилось, что ничего этого не нужно: это не облава и Рико Гиздич здесь ни при чем, просто родственники Маркетича Нишичи и Дреевичи из Любы, услыхав, что Вуле Маркетич убит, задумали его разыскать и похоронить.
Собралось их человек двадцать, чтобы сообща защищаться, если дойдет до расправы, и по-братски разделить возможную кару. По дороге они свернули в Дол, к Ериничам, дядьям Раича Боснича, чтобы и их склонить принять участие в этом деле. Убедить их оказалось непросто, но труд не пропал даром: благодаря родственным связям Ериничей с Груячичами, Алексой Брадаричем и другими главарями, теперь никто не решился бы соваться в дела Ериничей; а если бы кто и рискнул, всегда нашлись бы защитники, которые бы никого не дали в обиду.
Все они принялись благодарить Пашко за то, что тот избавил их от трудного пути и мучительных поисков по Рогодже. Он смотрел на них в недоумении: что это, подвох или сон? Давно уж он ни от кого не слышал слов одобрения, похвалы и благодарности, откуда вдруг такая перемена? Пашко привык к тому, что в глазах всех он белая ворона, сумасшедший, старый дурак, тщетно борющийся с драконами, которые его терпят только потому, что видят, какой он слабый, чокнутый и что он ничем не может им повредить. Давно прошло то время, когда он думал, что все это изменится, когда верил, что в людях, в народе еще сохранилось что-то человеческое, исконное, что они способны иногда думать не только о себе, о барышах и грабежах, способны беречь свою честь, способны сказать «нет» и повернуть в сторону, противоположную облавам, — к братству людей. Изо дня в день его вера в людей меркла, пока совсем не угасла. И вот сейчас вдруг начала оживать, хоть он и боролся с этим чувством, боясь обмануться снова.
— Так-то оно так, — сварливо пробурчал Пашко. — Я вам удружил, чтобы вы не блуждали ночью по туретчине. А теперь вы мне должны удружить.
— Как же нам тебе удружить?
— Видите, я устал, еле на ногах держусь, не могу я возить мертвых туда-сюда. Похороните их всех у себя на кладбище, а?
— А чего же? Грех их разделять. Вместе погибли, вместе пусть и почиют. Места на кладбище хватит.
— Нужно достать кирки, лопаты, выкопать могилы.
— Это, по крайней мере, мы умеем. Только и знаем, что лучших хороним, дело привычное.
— И фонари надо загодя раздобыть, луна может подвести.
— И фонари у нас есть. Ступай домой, отдохни, довольно ты потрудился.
Нет, он не станет отдыхать. Во всяком случае, пока не убедится, что дело сделано на совесть, — раз нет гробов, пусть хоть могилы будут сухие и глубокие. И он двинулся вместе со всеми через Старчево, мимо Ластоваца и Дола. По земле за ними тянулся собачий брех, а по небу — тучи. Поднялся ветер, окреп и понес ледяную пыль, — вой, стоны и предсмертные крики вздымались и кружились в высоте. Луна помутнела. Время от времени налетала вьюга, скрывая дорогу, даже пальца перед глазами не увидишь; потом снова открывалась мирная даль гор и траурное шествие деревьев на них. И Пашко чудится, будто это не деревья, а матери, обездоленные облавой, идут отыскивать и оплакивать убитых сыновей. Некоторые причитают, те, что позади, плачут навзрыд. Они далеко, и поэтому их не слышно, только ветер подхватит иногда ворох материнских воплей, поднимет их над плоскогорьем и высыплет на дорогу, по которой везут погибших.
Ериничи наконец согласились не отделять Раича Боснича от товарищей. На кладбище в Любе Пашко выбрал место и показал, где копать могилы. Потом выпил рюмку ракии, повернулся спиной к ветру, уселся и стал смотреть, как Нишичи, Дреевичи и Ериничи разгребают лопатами снег и долбят мотыгами замерзшую землю. Не щадят себя, не отлынивают, чуть устанет один — его тотчас сменяет другой. И не потому, что торопятся, нет, хочется им отблагодарить Вуле Маркетича и его товарищей, отдать долг хотя бы мертвым, если не могли это сделать живым. Чернеет земля на лопатах, пахнет пахотой. Пашко впал в полусон — ему кажется, что он в поле. Но пашут не вширь, как обычно, а вглубь — потому что и семена, которые туда опустят, и плоды, которые из них вырастут, совсем иные. Семена эти, дающие плоды человеческой доброты, душевности, чести и милосердия, должны пустить глубокие корни, потому что эти высокие и красивые человеческие достоинства пышно расцветают и вызывают ярую ненависть драконов, земных и небесных. Не иссякает злоба драконов, злых нечистей и самого Князя Тьмы, насылают они на эти деревья непогоду, громы, дожди и град. Град рвет побеги, ветер уносит их в овраги, но стоит нечестивцу только понюхать оторванную веточку, и он избавляется от проклятого наследия природы…
По шоссе из города прошел грузовик, Пашко скинул с себя дрему. Люди прекратили работу и отошли в сторону, чтобы их снизу не заметили.
— За Филиппом Бекичем поехали, — сказал кто-то.
— Как за Филиппом?
— Ранен он, разве не знаешь? В живот навылет, вряд ли выживет.
— Дай бог ему здоровья, — сказал Пашко, ему вспомнился зеленый, как трава, снег на доме Бекича. — Все ведь уже кончилось, кто его ранил?
— Наверно, тамничане, он у них давно в печенках сидит.
IIКогда Филипп Бекич приходил в сознание, ему чудилось, будто миновал мучительный день и наступила ночь. Три дня прошло или четыре, он не знал, сбился со счета, а грузовика из больницы все еще не было. Рико Гиздич задержал машину, думает Филипп, Мило Доламича арестовал, запер в сарай и посадил под порожнюю кадку — не дал сообщить об этом ни воеводе Юзбашичу, ни Черчиллю, никому. А когда все-таки слух распространился, Гиздич стал на дороге, подбоченился и брюхом своим перекрыл все движение, не пропускает грузовик и только, разве что новую дорогу строить, а это дело долгое. Он, Филипп, еще отомстит Гиздичу. Обязательно отомстит: если человек с раной в животе проживет три дня, значит, ему до ста лет жить, и он успеет отомстить всем своим врагам.
— Сожгу его, — сказал он вслух. — Оболью бензином и подожгу, пусть горит! И пусть только кто-нибудь попробует прийти ему на помощь!
— Кого это ты, Филипп!
— Гизду! Этот бочонок с ракией! Пусть расплачивается за то, что был немецким шпионом!
— Не надо тебе разговаривать, только рану бередишь. Придет время, Гиздич заплатит.
— Не желаю я ждать. Жить из-за него невозможно, отсюда слышу, смердит. Это его жандармы меня подстрелили, потому так и болит.
— Нет, Филипп, — успокаивает его Логовац, — это не они, это коммунисты стреляли.
— Не лги! Гавро там не было, не наводи тень на плетень, прячешь Гизду, как беременная девка пузо. Все вы держите его сторону, мать вашу перемать, — так мне и нужно: зачем связался со всякой сволочью.
— Не бери греха на душу, Филипп! Не такие мы, сам знаешь, не такие.
Ветер относит слова Логоваца, и Бекич тотчас забывает о его существовании. Острые боли, точно длинными штыками, пронизывают его тело: точно знают, куда колоть, где самое больное место. Голыми руками он хватает за один из штыков и сгибает его; но в отместку пять, нет, бесконечное множество других со скрежетом вонзаются ему в спину. Десять на одного, думает он, и не стыдно им! И Рико Гиздич стыда не знает, и собаки не знают, лают и рычат, пока не сдохнут… Штыки малость затупились и порой промахиваются и попадают в пустоту, но и это гораздо больнее, чем можно себе представить. Боль не давала вздохнуть, призвать на помощь бога или хотя бы отвести душу и выругаться, не позволяла ни погрозить кому-нибудь, как он это обычно делал, ни потешить себя будущим отмщением. Он извивался и корчился от мук, и ему становилось все хуже и хуже.
— Не знал я, что бывает такое, — шептал Филипп сквозь застывшую на губах пену, — думал легче и не так долго. Кабы знал, не стал бы так куражиться! Отпустило бы сейчас, никогда бы больше не полез в герои!..
Он попробовал спрятаться, да некуда, слишком велик он и весь открыт для болей, как широкое вспаханное поле для дождей и ворон. Живот у него точно хорошо унавоженный огород, где в поисках червяков копошатся куры, а спина как сливовый сад с побеленными стволами деревьев, что простерся до самого луга. Куда все это спрячешь? И Орван не прикроет, — до устали нашагаешься, пока все это обойдешь. Ограды сломаны, протоптаны тропы, взбухли кротовые насыпи, пробились грязные ключи. Зятья пригнали волов, подкупили батраков, привезли плуги с новыми лемехами пахать его, делить, кромсать на куски. Связали веревки и пояса, протянули их от озера до реки — меряют, топчут, забивают колья, размежевывают и не спрашивают, больно ли ему. Ссорятся и галдят, точно вороны, кричат, каркают, готовы друг другу глаза выклевать из-за клочка болота…