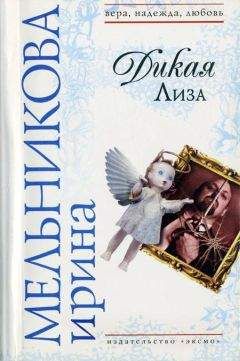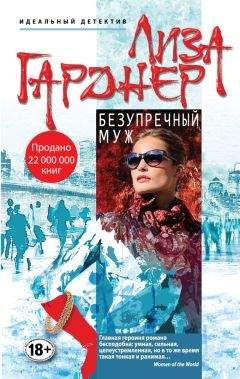Илья Эренбург - Буря
— Прощай, Робер! Я не могу тебя обнять…
— Слушай, Анна… Я тебе хочу сказать, как француз, как коммунист, — хорошо, что ты с нами. И Соваж. И русские в Сталинграде. Прощай, Анна!
Она слышала эти слова в темной камере, слышала и потом, когда за нею пришли. Эти слова осветили ее последние минуты. Она думала: говорили «интернационал», но и это нужно почувствовать на себе… От Волги и до меня… Отец любил рассказывать о библейском рае; зеленый, густой сад. Но тот потерян, а этот я нашла…
Она отказалась от повязки; ей все же завязали глаза — офицеру показалось, что она смотрит на него с вызовом. А она смотрела на размытую дождем площадку, на высокое костистое дерево, на найденный рай.
13
Христина Штаубе до войны вышивала на дому для магазина художественных изделий и ухаживала за отцом, отставным чиновником, которого разбил паралич. Ей было тридцать шесть лет, и она больше не помышляла о замужестве, хотя нельзя было назвать ее уродливой. Лет десять назад за нею ухаживал бухгалтер Циммер, водил в кино, в кондитерские. Отец, узнав, кто претендент, стал кричать, что Христина забывает о своем долге, девушка должна все взвесить, прежде чем сделать роковой шаг, он не может ей помешать — болен и стар, но он не даст за ней ни пфеннига. Христина пришла на свидание заплаканная, сказала: «Густав, я готова на все. Хоть сейчас… Но папа против. Дом записан на его имя. Я прилично зарабатываю, а помимо этого у меня ничего нет…» Густав ответил: «Я не материалист, я тебя люблю и без приданого…» Потом он заторопился: у него сверхурочная работа. Больше Христина его не видала. Ее сердце черствело, как надрезанный и нетронутый хлеб. Порой она плакала — когда папочка умрет, я останусь одна; порой ею овладевали смутные мечты — умрет, продам дом и выйду замуж, даже сорокалетние находят женихов…
Отец в конце концов умер; но случилось это в марте сорок второго: дом нельзя было продать — после налета английской авиации привокзальный квартал опустел; мечтать о замужестве не приходилось — даже двадцатилетние красотки остались без кавалеров; никто больше не покупал пеньюаров с цаплями или скатерток с ирисами. Христина стала смотрительницей барака в лагере, где содержались женщины, вывезенные из России. Господин Кирхгоф ей объяснил: «Это не преступницы, мы их держим взаперти только потому, что обычаи русских не похожи на наши. Будьте строги, но справедливы, помните, что русские это дети…»
Христина не была по природе злой, и, ударив впервые по щеке голубоглазую Варю, она испугалась: может быть, это дурно? Подумав, она успокоилась: господин Кирхгоф сказал, что русские — дети, а детей необходимо наказывать; когда я таскала за хвост котенка или что-нибудь ломала, папочка не жалел шлепков… Христина не замечала, что чаще всего она наказывает молодых и привлекательных девушек. Лагерный врач Фуснер сказал о шестнадцатилетней Шурочке: «Прямо с картины Мурильо»… Христина обыскала Шурочку и нашла два куска мыла. «Откуда?» Шурочка молчала. Христина обвинила ее в воровстве и отхлестала по щекам. Дети!.. Христине казалось, что она полюбила своих русских, они не такие страшные, как пишут в газетах, и потом, боже мой, до чего они сладко поют!..
Голодные, измученные девушки, чтоб отвести душу, иногда по вечерам пели; была в тех песнях тоска по родной хате, по маме, по любимому человеку. Христина знала, что стоит ей войти в барак, и песня оборвется. Как вор, крадучись, она забиралась под окно и слушала. Она видела себя в темной, затхлой комнате — лекарства, выцветшие фотографии тетушек, больной старик в кресле, а где-то далеко среди жасмина красавец Густав обнимает другую… Христина бурно вздыхала: боже мой, как я несчастна!..
Лучше всех пела Галочка. Когда-то друзья из «Пиквикского клуба» говорили: «Ну, хохотуша, спой»… Тогда ей было весело, а пела она про несчастную любовь. Здесь она предпочитала задорные песни. Христина возмущалась: почему эта девчонка радуется?.. У нее приятный голос, а репертуар пошлый, нет ничего возвышенного. И все же Христина слушала, она даже притопывала, как будто сейчас пойдет танцовать «шимми» с Густавом.
Галочке не удалось в Киеве разыскать своих комсомольцев. Она надеялась — потеплеет и придут наши. Но настало страшное лето: немцы дошли до Волги. Стешенко, встретив на улице Галочку, насмешливо прищурился: «Все еще гуляете? Скоро Валю увидим — больше трех месяцев красные не протянут…» Город онемел; рыскали гестаповцы, полицейские; человека, сказавшего неосторожное слово, уводили, и он исчезал навеки. Повсюду пестрели афиши, зазывающие молодых в Германию — там удобные квартиры, много еды, красивая одежда. Весной немцам удалось заманить несколько сотен. Ксана, с которой Галочка была в десятилетке, записалась: «Хочу поглядеть заграницу». Галочка отговаривала: «Какая заграница? Это, как на каторгу… А если тебя заставят делать оружие? Твой брат в армии, значит, ты его убьешь?..» — «Мудришь, — ответила Ксана, — а за границу я все-таки поеду, приоденусь…» Когда немцы увидели, что охотников мало, они начали забирать насильно. Попалась и Галочка.
Унтер-офицер, говоривший немного по-русски, поглядел на плачущих женщин и сказал: «Немец добрый. Немец не убьет». Галочка неожиданно рассмеялась, скороговоркой спросила: «Бабушка, почему у тебя зубы длинные?» Унтер-офицер не понял, но смех ему не понравился, он выругался и отошел от вагона. Девушки, стоявшие вокруг Галочки, засмеялись: Галочка их заразила своим весельем. Они не догадывались, что это веселье напускное. А Галочка твердо знала: теперь нужно быть веселой — нашим легче, да и немцев это бесит… Так воскресла «хохотуша».
Рано утром их вели через город на завод. Город был небольшой и чистый. Блестели медные тарелки над парикмахерскими. Сверкали в витринах фаянсовые умывальники и кухонная утварь. Детишки были аккуратно одеты, не бегали, а степенно шли в школу. У входа в колбасную или в мясную чинно сидели, привязанные к особым крюкам, черные и коричневые таксы — поджидали хозяек. На базаре продавали цветы — последние астры осени. Галочка вспоминала развалины Крещатика, дядю Лёню, повешенных. Теперь она видит детские коляски, косички с бантиками, магазины игрушек, газоны… Как странно, что у таких есть жены, дети, что жена гестаповца ходит на базар, выбирает груши или яблоки, вытирает нос своему младенцу… Уж лучше бы кусались!..
Галочка в школе учила немецкий; она быстро начала понимать и наставления Христины, и окрики мастеров на заводе, и разговоры горожан, когда девушки возвращались с работы: «Какие они оборванные!.. Карл пишет, что русские хуже негров… Курносые… Сильные, хорошо, что в лагере… Я никогда не пустила бы такую к себе… А у фрау Иенике русская, и она очень довольна…» Тогда Галочка со смехом говорила Варе: «Погляди на ту — нос, рот, подбородок, все вкривь, как их буквы…» И Варя тоже смеялась.
Их кормили супом с брюквой; всегда мучил голод. Работа была тяжелая: таскали железные бруски, мешки с цементом, чистили печи. Христина, желая хорошо воспитать доверенных ей детей, каждый день кого-нибудь наказывала — оставляла без еды, посылала в наряд — после работы нужно было рыть щели, била. Только Галочку она не трогала; может быть, из любви к ее голосу — «это мой соловей», говорила она доктору Фуснеру; а может быть, боялась — когда она наказывала других, Галочка глядела на нее такими злыми глазами, что Христина думала: этот соловей может глаза выклевать…
Христина давала женщинам газету, которую немцы издавали на русском языке. Читая ее, нельзя было ничего понять: как будто немцы повсюду победили, а война не кончается… Были среди девушек крепкие, как Галочка, которые не верили ни одному слову, считали, что зимой немцев побьют, а они вернутся на родину; были и слабые — глядя на спокойную жизнь далекого от фронта города, на витрины с товарами, на сытых, ухмыляющихся немок, такие говорили: «нет, наши с ними не справятся!..» Тогда Галочка начинала фантазировать: их побили возле Ростова, союзники во Франции, говорят, что Гитлера убили… Галочка понимала: нельзя дать волю тоске.
На заводе вместе с ними работали французы — военнопленные. Сначала девушки держались особняком: неизвестно, что думают эти французы, может быть, тоже задаются, да и не поговоришь — языка нет… Французы приветливо улыбались, говорили по-немецки, что они «товарищи» (это все поняли), давали девушкам хлеб, сыр, шоколад — получали посылки от родных.
Галочка подружилась с молодым, веселым французом. Он рассказал ей, что он сын врача, студент, изучал физику. Они разговаривали на необычайном языке, в него входили немецкие, русские и французские слова; разговаривали урывками; и все же узнали много друг про друга. Галочка видела Париж, как будто она там была, — большая площадь, улицы расходятся лучами, на улицах столы — можно пить кофе, каштаны, как в Киеве; Пьер только что сдал экзамены, он идет с товарищами посредине улицы, поют, кричат — это очень весело, называется «моном»… А Пьер знал, что Киев зеленый и горбатый, когда смотришь с Владимирской горки на Днепр, «можно умереть — такая красота»; Галочка часто ходила в оперу, она любит «Пиковую даму» и «Кармен»… Галочка обрадовалась, когда выяснилось, что Пьер читал «Записки Пиквикского клуба». Вот только не могла объяснить, что ее звали хохотушей… Зато рассказала про Валю, про Раю, про Борю. «У нас много партизан, даже в Киеве убивали фрицев». Пьер говорил, что во Франции тоже партизаны и они хорошо сражаются, прежде было много изменников, Париж сдали, линию Мажино сдали — он попал в плен вместе со всеми, Он спрашивал про Красную Армию, и Галочка с гордостью отвечала: «Армия замечательная! Немцы не взяли ни Москвы, ни Ленинграда, скоро освободят Киев…» Она повторяла старые слова листовки, хотя после этого было горькое лето, — когда она глядела на Пьера, все в мире менялось, и она верила, что русские наступают… Пьер помогал ей, как мог, тихонько передавал хлеб, колбасу, конфеты. Он так глядел на нее, что ей становилось весело — по-настоящему, не для вида, и тогда она не смеялась, она делалась очень серьезной, краснела, отворачивалась. Бывает, на заводском дворе среди мусора, шлака зазеленеет травинка. Такой была их любовь в темную осень сорок второго. Ни разу они не заговорили о своем чувстве, но о чем бы они ни разговаривали, был в коротких простых словах иной, только им понятный смысл.