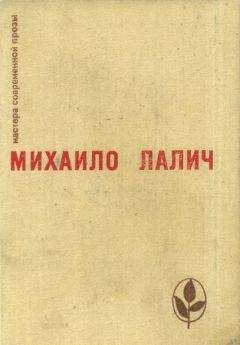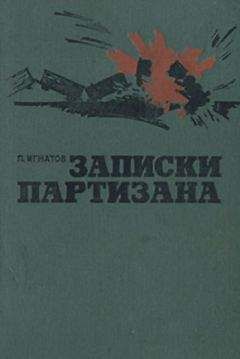Михаило Лалич - Облава
— Погоди-ка, Шако, — сказал он. — Стой там, где стоишь.
— Что случилось? — спросил Шако и проследил за его взглядом.
— Тот с шалью вокруг головы ищет кого-то в бинокль.
— Это их начальник.
— Ты его знаешь?
— Видел утром у подножья Софры. Что, если его кокнуть?
— Далеко, а грудь выпятил, точно перед фотографом. Давай попытаемся, чем черт не шутит.
— Его счастье, плохо вижу, смотри, хоть ты не промахнись!
Положили винтовки на развилки веток, стали устраиваться, ворчат — не выходит. Нервы расходились, коленки дрожат, руки трясутся, а тут еще и упоры качаются. Шако улегся в снег, Ладо за ним, приладили винтовки так, чтобы не ходили, нацелились и подали друг другу знак. Выстрелили они почти одновременно — три человека на склоне скрылись из виду. Четвертый, с шалью — Филипп Бекич — отступил на два шага, выпустил бинокль и широко расставил руки. Вила острыми рогами вонзилась ему пониже живота, ломает лопатки, а он все равно не дает ей дороги. До этого он думал о Гавро Бекиче.
— Не Гавро, — сказал он и упал.
— Тебя ранили, Филипп? — крикнул Логовац из укрытия.
— Пустяки, — сказал он. — Мать… — Он хотел обругать разрывающие его рога, но брань перешла в вопль. — Стащите меня с этого, этого… рожна!
Логовац поволок его в укрытие, посмотрел и охрипшим от крика голосом просипел:
— В живот! Счастье, что пустой.
— Цыганское счастье, — сказал Лазар Саблич. — Погляди на его спину.
Бекич услыхал, вскипел и сердито крикнул:
— Молчи, поганец, нечего каркать. Все это пустяки.
— Надо везти в Тамник, — весело проблекотал Мило Доламич.
— Какой Тамник, чтоб тебя черти во тьму утащили! На шоссе и сообщить по телефону, чтобы прислали машину. Заслужил хоть это и заплатить есть чем! — Бекич устал, мучила рана, и он уже тихо добавил: — Мое спасение — больница.
Никогда в жизни он не переступал больничного порога, видел только матовые стекла, чисто вымытое крыльцо больницы и веселых сестер, перешептывающихся с проходящими офицерами. Ему казалось, что внутри больницы все новое, удобное и все спят; и он воображал, что, как только его перенесут через порог, боли утихнут и он тоже заснет. А во сне ничего не чувствуешь, даже рожна. Там итальянские врачи-специалисты в очках с блестящими инструментами; о них давно уже идет слава, будто они все знают, все могут, будто спасают каких-то старух и калек, жизнь которых не стоит ломаного гроша, спасут и его!.. Когда им скажут, кто такой Филипп Бекич, и когда воевода Юзбашич нажмет на свои связи, все врачи сбегутся, сколько их есть, обо всех больных позабудут, пока его не спасут. Может, и лондонское радио скажет свое слово… Быстро это доходит по воздуху до Лондона и обратно, но и боли быстро одолевают. Сейчас соперничают эти две силы — одна тащит его вниз в землю, другая вверх — потому все так и болит. Но что скажет Лондон? Может, ничего не скажет. Охладел к нам Черчилль, сомнение его взяло; видать, и до него эти истории с макаронами дошли. Скверная штука, эти макароны — извиваются как кишки или змеи, гладкие-гладкие и скользкие, а рано или поздно приходится за них расплачиваться. Он чувствовал это, говорил Юзбашичу — бросим это дело с макаронами, пока они у нас через нос не полезли! И все впустую, Юзбашич тоже ничего не может. Вертится машина, и вертит ее бесстыжий Рико Гиздич, немецкий шпион и еще бог знает чей…
— Черчиллю ни слова, — сказал он. — Ни так, ни этак, молчок, словно ничего не случилось.
— О чем ты? — спросил Логовац.
— Курва эта политика, и мы не лучше, когда туго приходится. Пока не явятся мастера подмазать — никому ни слова. А потом главное — без свидетелей.
— Да и нет их, если придут — перебьем.
— Оставь его, — сказал Саблич. — Он бредит.
Доламич принес из леса две сухие жерди, продел их в рукава шинели, они положили Бекича на эти носилки и зашагали по закрытой со всех сторон лесистой долинке.
Бекич, думая о том, куда его несут, вспомнил бородатого Пашко Поповича: он давеча говорил про больницу. Помянул-то он ее вскользь, но сейчас ясно: это он нарочно, чтобы напророчить ему беду. Хитер Пашко, ну ничего, заплатит ему бородач! Не важно, что его мать родом из Маркетичей, это его не спасет, к черту родственные связи, когда дело касается преступника! У Пашко давно преступные намерения, таскает с собой какие-то книги, высматривает из-за кустов, мутит народ рассказами о Злой Нечисти. Эти небылицы — прикрытый коммунизм. Наверняка он связан с тайными силами, а та женщина, что лежала под деревом, его комиссар. Он запрятал ее в больницу, но Филипп Бекич и там ее разыщет. Пятки на противень с горящими углями, как картошку, — рассказывай, сволочь, кто тебя послал заводить людей Филиппа Бекича в дикие ущелья? Пусть вопит! Никакой пощады! Баба водила его за нос, всю ночь водила черт знает где. Не будь ее следов, облава закончилась бы на рассвете. И справился бы он один, собственными силами, честь-честью, без Гиздича, итальянцев и турок. Черчилль тогда не имел бы повода возмущаться: развели кумовство! И это была бы даже не облава, а резня: окружили бы десять спящих коммунистов и усыпили бы их навсегда. Боже, вот был бы праздник! Разожгли бы костры — жарится мясо; пахнет ракией, собаки грызутся из-за костей, а лысые старики славят Филиппа, поют в его честь песни, превозносят до небес…
Он весь ушел в игру воображения, смотрит, слушает, голоса и картины связываются и оживляют друг друга.
На несколько мгновений Бекич забыл о своих ранах. Он был горд и счастлив, и вдруг Логовац поскользнулся, тряхнул носилки, и все рожны разом вонзились в поврежденные ткани тела. Бекич скрипнул зубами и проглотил стон вместе со сгустком крови.
«Это они нарочно, — подумал он, — попал я в руки самой последней сволочи, которая когда-либо ходила по Земле. Так мне и надо, сам выбрал себе такую дрянь в товарищи! Вон подлец Лазар Саблич прячет лицо, чтобы я не видел, как он злорадствует. Еще побаивается меня, потому и отворачивается, а когда убедится, что я уже ничего не смогу с ним сделать, будет в глаза смеяться. Скалит зубы и второй пес, и третий — все они заодно, все против меня. Так всегда: кому худо, на того дружно бросаются, — вот тебе и облава. Радуются, развесили уши: хотят послушать, как я буду стонать, чтобы потом рассказывать женам. А я не буду, назло им не буду! Ни за что не буду, не дождетесь!»
Глаза его обманули — Логовацу и Сабличу не до смеха. Лица свои они прятали, чтобы скрыть испуг и тревогу. Переполошили и обеспокоили их эти два выстрела — им показалось, что стреляли где-то совсем близко, и в любую минуту можно ждать снова. Впрочем, если выстрелов сейчас и не будет, это всего лишь отсрочка. Ни тот, ни другой не допускали мысли, что стреляли коммунисты, они уверены, что это мстил кто-то из родичей Маркетича, Зачанина или Боснича. Всегда находятся сумасшедшие, порой и самые мирные люди взбесятся, как недавно Пашко Попович, за все приходится платить. Главная их опора и защита — Филипп Бекич — пала, а когда его не станет и наступит час расплаты, в первую голову возьмутся за них. Саблич жалеет, что наступал ногой на грудь Зачанина, Логовац — что фотографировался над Видричем, вспоминается и многое другое, они обливаются холодным потом и молят бога, чтобы Филипп Бекич остался жив и взял все на себя.
По-настоящему радуется один Мило Доламич — его устраивает и отсрочка. Он видел, как погиб Тодор Ставор, понял, что его убил Бекич, и не сомневался, что скоро придет черед единственного свидетеля их ссоры. Филипп Бекич не любит свидетелей. Доламич пытался улизнуть, перейти к Гиздичу или Брадаричу, но Бекич не спускал с него глаз и не отпускал от себя ни на шаг. Круг замкнулся и постепенно суживался. Мило Доламич видел, как он суживается, ждал ночи, как овца — ножа, и дыхание у него занималось от страха. Сейчас уже легче. Не совсем еще, да и кому в наше время легко. Еще хватит и муки и горя, будут облавы и с одной и с другой стороны, ему же остается только вилять и надеяться, что в конце концов он найдет способ увильнуть окончательно.
VЛадо видел, как они шли по лесу, уже далеко от полянки.
— Вон носилки, — сказал он. — Клянусь богом, списали одного в расход!
— Ну что ж, — пробормотал Шако, — сейчас ты не можешь сказать, что мы весь день только и делаем, что благодарим. А пока думают, что нас нет, мы могли бы еще кого-нибудь шлепнуть. Я бы напал на штаб: они ни на что не рассчитывают, дуются в карты, наверно, и часовых не поставили.
— А ты разве знаешь, где у них штаб?
— Другого места, как дом Бекича, нет. Крепко построен и найдется, что выпить.
— Тогда пойдем поглядим!
Согласившись, он вспомнил, что у него осталась всего одна граната, но не сказал ни слова. Впрочем, он не сказал бы, даже если бы вспомнил раньше: получилось бы, что он колеблется, мучается страхом, окружает себя вымышленными преградами и теряет дорогое время. Давно уже в голове у него вертится странная мысль: легче всего удается то, что кажется невероятным. Ладо скрывает эту мысль от других — очень уж она напоминает обычное суеверие — и временами о ней забывает; но когда приходится туго, вспоминает о ней, и она снова и снова подтверждается: каждый раз его спасает какое-нибудь чудо. Вот и сейчас: они вырвались из клещей облавы, дышат, идут, несут винтовки и стреляют — это чудо и одновременно реальность. Нехорошо предавать его и обходить молчанием; да и им не пристало просто убежать и скрыться, как раненым змеям в свои норы.