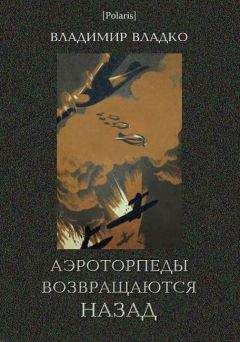Владимир Бондарец - Военнопленные
— Я понимаю, что питание в лагере далеко не достаточное. Но что поделать? — капитан развел руками. — Такова норма. Я решил вам помочь.
По рядам пошло чуть заметное оживление.
— Окрестное население обратилось ко мне с просьбой, — повысил голос комендант, — вывозить на их поля удобрение из лагерных уборных. С этой целью я организую из вас несколько ассенизационных команд. В качестве вознаграждения за работу они получат по сто граммов хлеба на человека. Это дополнительно к пайку. Желающих прошу выйти из строя.
Ошеломленный неожиданным поворотом, строй старших командиров настороженно притих. Недавнее оживление сменилось подавленным молчанием.
— Мне нужно пятьдесят человек, — продолжал комендант. — Пятьдесят добровольцев прошу выйти вперед. Ясно? Нет желающих? Или, может быть, это саботаж? Хорошо. Я буду отбирать сам. Тогда выходи вот ты и ты… — Капитан пошел вдоль строя, выбирая людей. Но и после этого никто не тронулся с места.
Холеное лицо коменданта налилось кровью. В холодном бешенстве он щелкал стеком по жесткому голенищу сапога.
— Очень хорошо! Вы не хотите работать? Это значит, что вы не повинуетесь моим приказам. По законам военного времени вы должны быть расстреляны. Фельдфебель!
— Слушаюсь, мой капитан!
— Взять вот этого! — капитан указал на истощенного седого полковника. — Ты тоже не будешь работать?
— Потрудитесь обращаться на «вы», господин капитан. Кроме того, вы не вправе заставить меня работать на подобной работе хотя бы из уважения к моему возрасту и званию.
— Вот как?! — удивился комендант. — Не впра-а-аве? Двадцать пять! — коротко бросил он стоящим поодаль полицаям.
Молодые здоровые хлопцы замешкались. Даже этим типам, презревшим всякую человеческую мораль, было неудобно бить палками старого полковника.
— Комендант, я недоволен вашими людьми. Они плохо повинуются, — с нажимом процедил капитан.
Старшина лагеря — черномазый подполковник в хорошо отутюженной коверкотовой гимнастерке и начищенных до зеркального блеска сапогах — подскочил к старику, грубо рванул за рукав, потащил к «кобыле». На помощь пришли ожившие полицаи.
— Подлец! — громко крикнул полковник.
Экзекуцию он перенес молча. Но с «кобылы» подняться уже не смог. Его сняли, положили в стороне.
— Вы довольны? — продолжал издеваться капитан. — Теперь вы охотнее пойдете работать. Что?
После такой меры пятьдесят человек были отобраны.
— Разойдись! — Старшина зло ворочал белками. — Сволочи!..
На «кобыле» полицаи пороли отказавшихся — таких набралось человек двадцать. В воздухе мелькали палки.
На следующий день в веревочную упряжь ассенизационных бочек впряглись отобранные накануне. От стыда они опустили головы, тупо переставляли ноги.
Бочки катились по двору, гулко встряхиваясь на ухабах. Уныло покачивались привязанные к длинным шестам испачканные нечистотами каски.
2После утренней поверки народ разбредался по двору. Кто играл в замызганные самодельные карты, кто из обломка каски мастерил нож, целыми днями точил его на булыжнике, кто просто валялся на чахлой коричневой траве. Большинство собиралось группами, спорило до хрипоты по поводу и без всякого повода. Авторитеты не признавались, лучшие аргументы — несгибаемое упрямство и луженая глотка.
Олегу на одном месте не сиделось. Он бродил по лагерю, прислушивался к разговорам, ввязывался в споры и, столкнув спорщиков, оставался сам в стороне, сияя от удовольствия.
В углу между проволокой и бетонной коробкой мусорника чаще всего собирались любители «вкусных» разговоров. Вспоминали яства, деликатесы, способы их приготовления, сервировку. Не забывалась ни одна деталь, не опускалась ни одна мелочь.
Над сидящими приподнялся высокий и очень худой человек. Голова его напоминала корабельную швабру с длинными пеньковыми косичками.
— Бифштекс, — проговорил он басом, — это не наше, не русское. И название-то: ни вкуса, ни запаха. Иное дело — пельмени. — Он поднес к лицу сложенные щепотью пальцы, точно держал перед собой горячий пельмень.
Слушатели сглотнули набежавшую слюну.
— Берется мука. Белая, конечно. Потом…
Истощенный гурман рассказывал, остальные слушали, в мыслях поедали невозможное количество пельменей и исходили слюной. Все шло гладко. И вот тут вмешался Олег.
— Неверно! Вы говорите, соль кладется в фарш. Нет! Ее бросают в кипяток.
— Это одно и то же, — попробовал отмахнуться высокий.
— Нет, не одно и то же!
— Не одно и то же! — как эхо, подхватил еще один голос. — Если в фарш, тогда тесто несоленое.
— Много вы понимаете…
— Больше тебя!
И пошло. Спор покатился, загрохотал, как пустая бочка по булыжной мостовой.
— И охота тебе связываться, — ворчал Адамов. — Когда-нибудь морду набьют.
Олег свистнул.
— В спорах познается истина. Пока молчит соловей — кричит осел. Все-таки веселее.
— Это кто же соловей? Ты?!
— А хоть бы и я. Молчун дубовый! Опухнешь от сна. Вот прорва! — искренне удивлялся Олег. — Впрочем, где кончается порядок, там начинается авиация. Давят жучка по целым суткам. Иммунитет!
Григорий беззлобно отругивался.
После поверки нас не распустили, а увели на плац. Такие построения почти всегда предшествовали отправкам крупных партий.
На этот раз придавалось большое значение равнению по рядам и в затылок, и поэтому пленные заключили, что готовилось что-то торжественное.
Перед клубом стоял рослый комендант и рядом с ним хилый старичок в тонком сером мундире с витыми серебряными погонами на сутулых плечах. Лицо желтое, в мешочках, левую бровь подпер монокль.
— Смирна-а-а! — К старику с докладом подскочил щеголеватый старшина.
— Вольно, голубчик.
— Вольна-а-а!
Старик перебросился фразой с комендантом. Тот важно качнул головой.
— Братцы! — Старик, шагнув вперед, протянул к строю руки. — Я приехал к вам из Берлина по поручению командования Русской освободительной армии. Я рад, что вижу стольких русских офицеров вместе. Я не сомневаюсь, что все вы достойные сыны многострадальной России.
По площади прошел сдержанный гул.
— В моем лице к вам обращаются люди, взявшие на себя священную миссию борьбы с большевизмом. Мы ждали этого радостного времени более двадцати лет. Теперь наш час настал. Вот! — Старик поднял над головой большую листовку с портретом. — Вот истинный боец за счастье своего народа — генерал Власов. Я зову вас под знамена. Советам приходит конец. Ваш долг ускорить его, затем вернуться к семьям и строить новую Россию. Страну…
— Россию на немецкий лад! — звонко крикнул кто-то из строя.
— Страну предприимчивых, умных людей, — поправил старик.
— Под немецким каблуком! — не унимался голос.
Бросив украдкою взгляд на коменданта, старик ответил:
— Немцы получат свое и уйдут. Мы будем свободны!
В задних рядах поднялся шум.
— Громче!
— Не слышно!
Шум перекинулся из задних рядов в передние, Кричали уже все. В голосах слышалось озорство.
— Старый пер…!
— Долой! Доло-о-ой!
Между рядами зашныряли полицаи, солдаты охраны и оба коменданта. Понемногу шум стих.
— Напрасно вы шумите. Вам не за что держаться. Нынешняя Россия считает вас изменниками. Об этом заявил сам Сталин. Но если для него вы изменники, то для нас вы желанные люди. Мы ждем вас! Мы обращаемся к вашей совести, вашему долгу перед Ро… кха… кха…
Приступ кашля заставил его схватиться за грудь.
— Доло-о-ой!
— Он рассыплется!
— Воды-ы!
Перемежаясь с разбойным свистом, крики неслись над площадью. Часовые на вышках повели по лагерю стволами пулеметов. Но применить оружие не позволял момент, а как можно заставить замолчать несколько тысяч глоток?
Комендант махнул рукой, велел разойтись.
— Эх и вояка, разрази его гром! — Олег сиял как именинник. — Старая песочница, а туда же, в избавители лезет!
— Лиха беда — начало. Теперь будут капать на мозги, — рассудительно вставил Адамов. — Христолюбивые агитаторы!
3Перед отъездом из Проскурова Фоменко просил меня отыскать во Владимир-Волынском лагере Власенко, передать ему привет от Саши и пожелание спокойной жизни.
Я удивленно переспросил:
— Спокойной?!
— Да, именно спокойной.
Тогда мне стало понятно, что дело вовсе не в привете, а в чем-то значительно более важном, смысл которого для меня пока оставался тайным.
Розыски ничего не дали. Найти человека в многотысячном лагере вовсе не легко, тем более что его надо было искать, сообразуясь с некоторыми правилами осторожности.
Дни проходили. Подошел конец августа. Немцы без умолку трезвонили о своих победах, о скором конце войны. И, надо признаться, тогда им было о чем трезвонить. Вести с фронта шли очень тревожные. По всему было видно, что именно в те дни решалось: кто кого. Из репродуктора на площади беспрерывно доносились то бодрые лающие голоса, то бравурные марши. Солдатня распоясалась, уже без всяких стеснений заявляла, что все русские пойдут в рабство на десять лет, а если понадобится, то и на больше.