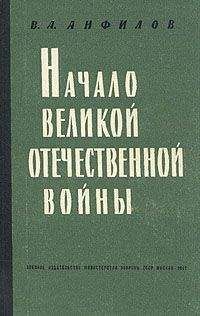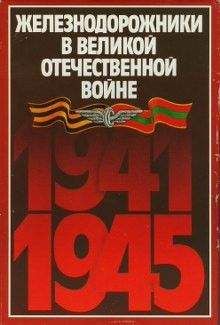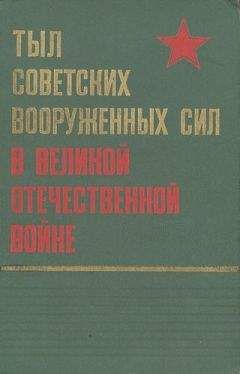Владимир Малахов - Жили мы на войне
— Скоро? — спрашивают. Я их поманежил малость, а потом все как есть и выложил. Они не верят, думают, я один эту гадость выпил, приглядываться ко мне стали, на улицу сбегали, принюхались к земле, потом на меня набросились:
— Вредитель ты. Может, это ценное лекарство, и без него наши герои-бойцы помрут от ран.
Я на такую глупость и отвечать не стал. Вдруг слышим из угла палаты голос, тихий такой.
— Вы, ребята, вот что сделайте, — советует, — вы очередность установите. Вас четверо, вот и заправляйтесь через день. Так оно лучше. Я по госпиталям за свою короткую жизнь повалялся, все тонкости этого житья изучил.
Мы с удивлением посмотрели в угол: перед «эфирной процедурой», верно, к нам пятого положили. Но был он весь в бинтах, замотан, как мумия, и, когда его несли, слова не промолвил. Без сознания человек, решили мы. А вот гляди — совет подает. Подошли мы к нему.
— Кто ты? — спрашиваем.
— Солдат.
— Знаем, что солдат, только как же ты в таком виде оказался?
— А я, — говорит, — невезучий. Сколько раз ранения получал, сейчас и не припомню. То ногу заденет, то руку зацепит, а однажды в такое место попало, что пришлось вместо докторши мужика-врача вызывать. Был случай: уж и бой закончили, поднялись в рост, через развалины пошли — тут на меня кирпич свалился, ключицу поломал. В госпиталь идти стыдно было, а пришлось.
— Ну, на этот раз тебя, парень, кажись, чуть до смерти не убило.
— Поначалу и я так думал, а теперь надежда есть — кажись, вывернусь.
Прибежала медсестра, Танюшка, и разогнала нас по кроватям. Посидела для порядка и умчалась по своим делам.
— Как же это тебя угораздило? — спрашиваю новенького.
— Самоходчик я, ну вот и погорел немножко.
— Тебе же все время больно. Чего не стонешь? — удивился я.
— Надоело. При моей жизни сильно много стонать бы пришлось. При первом ранении — стонал, кричал даже. А потом решил не позориться.
И вот стал этот паренек, Алешей его звали, поправляться. На глазах прямо. Проснется утром, приподнимется чуток и кричит:
— Привет, ребята! Это я, значит.
Прошло время, и стали мы замечать, что Танюшка уж больно часто в нашей палате вертится и все возле Алеши. Сначала думали: так положено, тяжелый он, за ним уход да уход нужен. А потом видим: тут дело не только в этом. Сидят в уголке и воркуют. Мы поначалу прислушивались, а потом стали выходить из палаты. И видим: Алешка после таких бесед веселый становится, шутки разные выбрасывает, анекдоты из него так и посыпались, ну, как горох из дырявого кармана. Хорошие анекдоты, смешные, а не матерные. Я раньше и не знал, что такие бывают.
Стали его мало-помалу разбинтовывать. Вначале руки показались, потом туловище обозначаться стало. И прямо скажу — жуткая картина открывалась. Кругом сплошной ожог, живого места нет. Ну, и заскучал он. Отвернется к стене и молчит, за целый день слова не скажет. А что тут говорить — кожа не нем буграми, в одном месте красная, в другом — желтая, а где и вовсе не поймешь какого цвета.
И вот при таком положении любовь обозначилась. А Алешка, видно, впервые влюбился-то, — как не заскучаешь.
А тут еще в соседней палате лейтенант раненый объявился. Молодой, розовый на лицо, волосы пышные и вьются. И начал он обхаживать Танюшку. Пойдет, бывало, умываться, непременно по пояс разденется. Не столько моется, сколько мускулами поигрывает, да еще и зыркает глазами по сторонам: смотрит на него Танюша или нет. И лип к ней этот лейтенант, как, извиняюсь, банный лист. Подойдет, покачиваясь из стороны в сторону, и начинает:
— Татьяна, не знаю, как вас по батюшке, вы любите танцевать? Я — очень. А какой ваш любимый танец? Мой — вальс. Ах, вальс, что за танец!
И начнет выпендриваться. Терпели мы, терпели, а потом я возьми и скажи:
— Товарищ лейтенант, мы тяжелораненые, нам покой нужен. Идите вы в свою палату или куда подальше еще. Нам отдыхать надо, перед фронтом сил набраться.
Он нехорошо так посмотрел на меня, однако ушел. Ну, думаю, понял человек, теперь отвяжется от Танюшки. Не тут-то было! Снова, как петух, вокруг девчонки ходит, ногой об пол бьет. Решился я тогда на крайнюю меру. Догнал его в коридоре и говорю:
— Мы сейчас одни, нипочем не докажешь, что такой разговор промеж нас был. Так вот: если будешь за Танюшкой увиваться, я тебя так отделаю, что придется в госпитале еще полгода валяться. Понял?
А он ни черта не понял, ей-богу.
— Неужели ты на нее навострился? — спрашивает. — Или за ту головешку хлопочешь?
Это он на Алешку намекнул. Едва я сдержал себя.
— За кого хлопочу — не твое дело. А вот как сказал, так и будет.
— Под трибунал захотел?
— А мне штрафная рота не страшна, — отвечаю. Повернулся и ушел. Ну, поостыл лейтенант после этого, на другую перекинулся.
А вот с Алешей становилось все хуже и хуже. Лежит и молчит. Даже с нами не разговаривает, не то что с Танюшкой. Как-то остались мы вдвоем, он поворачивается, просит:
— Помоги мне, старшина, голову разбинтовать. Хочу на лицо свое посмотреть. Все же интересно с новым обличием познакомиться.
Горько мне стало.
— Ладно, Алеша, знакомься с собой. Тебе еще долго в таком виде по земле топать. — Сказал, и сомнение меня взяло. — А может, — говорю, — не надо? Может, лучше тебе не видеть?
— Не бойся, старшина, — отвечает, — я не барышня, в обморок не брякнусь.
Разбинтовал я ему голову. И открылась, братцы мои, плохая картина. Посидел он на кровати, потом поднялся, к зеркалу подошел и глянул на себя. Долго глядел, но ни слова не сказал. Потом на место вернулся.
И тут вздумал я его, старый дурак, утешить и брякнул невпопад:
— Ничего, Алешенька, до свадьбы заживет.
Слово, как говорят, не птаха. Выпустишь на волю, обратно не загонишь. Опустил мой Алеха голову, крепкую думу думает. Потом вижу: в глазах у него слезинки поблескивают.
— Вот что, — говорит, — товарищ старшина. Просьба у меня к тебе большая. Поговори с Танюшкой, пусть она отступится от меня. Я тут, пока лежал, все передумал. Не будет у нас с ней жизни. Она еще не понимает всего, жалко ей меня, а потом, когда поймет, оба мучиться всю жизнь будем.
Начал я его утешать, только какие слова подойдут к такому положению? Любовь, она и есть любовь.
— Сделай, старшина, такую великую услугу, поговори с Танюшей, — слезно просит Алешка.
Дал я ему слово, только не спешил исполнять его. Разбинтовали Алешку вконец, и Танюша тут как тут. Вся наша палата замерла — что-то будет? А Танюшка долго смотрела на парня, потом радостно говорит:
— А знаешь, Алеша, ведь ничего страшного. Теперь главное — тебе окончательно на ноги подняться. А все остальное чепуха.
И, верите или нет, весь день этот Танюша такая веселая была, как будто гора у нее с плеч свалилась.
И все бы хорошо, только Алешка задурил совсем. Как-то встретился я с Танюшкой в дверях, а она оттолкнула меня и выбежала из палаты вся в слезах. Разыскал ее, усадил, глажу по голове, как дочку свою, а она говорит, всхлипывая:
— Чувствует мое сердце: добрый он человек, ласковый, чистый. Тянет меня к нему. Ничего поделать с собой не могу. Он думает, что ожоги его испугают меня, а мне разве внешность нужна, мне его сердце в сто раз дороже. — Вытерла она слезы и просит меня:
— Поговори, Василий Семенович, с Алешей. Наведи его на путь праведный.
Вот так и замкнулось все на мне. Долго думал я, что делать? И порешил — ничего. Если, думаю, любовь у них настоящая, она, как бронебойный снаряд, в любой стене брешь пробьет. А третий человек в таких делах никогда помощником не будет.
Покатилось время, как вагоны по рельсам. Где тряхнет малость, где вроде бы приостановится, а в общем-то все вперед и вперед. Однако наблюдаю я за ребятами. Недели через две стал замечать, будто повеселели они. Потом, когда Танюшка в ночь дежурила, Алеша наш совсем исчез, только под утро явился. Чуть солнце в окно ударило, он спрыгнул с кровати и весело кричит:
— А вот и я! Здравствуйте, значит.
Ну, думаю, все в порядке. Сработал бронебойный снаряд.
Радость, как и беда, в одиночку не ходит. Случилось через несколько дней в нашей палате большое событие. Открылась дверь, и вошел полковник со звездой Героя Советского Союза на груди, а за ним — все наше госпитальное начальство. Огляделся полковник и направился прямо к Алеше. Подошел, обнял парня, поцеловал.
— Спасибо, — говорит, — солдат Круглов, за твои боевые действия. Позволь орден к твоей груди прикрепить.
Алешка смутился, не знает, куда себя деть, куда полковника усадить. А тот вынул из кармана орден Красной Звезды и прикрепил прямо к нательной Алешиной рубашке.
Сел полковник, вынул из вещмешка бутылку вина, разную вкусную снедь. Мы, конечно, тоже к их табуретке приспособились. Выпили малость, поели, а полковник рассказывает:
— Хочу, чтобы знали вы об Алексее Круглове, о том, какой он молодец… Такая у нас ситуация возникла: впереди — железная дорога с крутой насыпью, никак не можем преодолеть ее. Отыскали один переезд, сунулась самоходка, а фашисты с первого снаряда ее подожгли. Они тоже не дураки, понимали, что только здесь мы можем дорогу перейти. Крадучись, на малой скорости стали подбираться к переезду другие наши самоходки, но и их гитлеровцы в упор расстреливали. Тут вызвался Алексей: «Позвольте мне немцев на арапа взять». — «Давай, Круглов», — отвечаю. Разогнался он и на самой большой скорости влетел на переезд. На секунды немцы растерялись, а он успел в два их орудия по снаряду влепить. Правда, третье его подстрелило. Но тут уж остальные наши самоходки через дорогу перемахнули… Вот такие пироги, друзья.