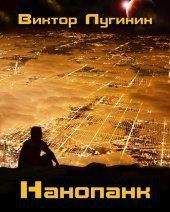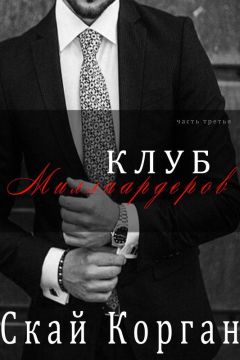Виктор Положий - Пепел на раны
— Разумеется, будь одинаково, вы бы не стали иронизировать, прикрывая свое бессилие.
— Смех — оружие сильных.
— Да, но они смеются втихомолку и — над собой.
— Давайте не отклоняться, тем более, что наметился просвет в словесных облаках. Значит, вопреки абсурдности мира, красных, а точнее, коммунистов, а еще точнее, их философию — люди, судя по всему, вас интересуют мало, — подождите, не показывайте свою невоспитанность и хоть раз не перебивайте! — вы как-то вычленяете из абсурда?
— Бесспорно, ведь их система мира подвижна, она основана на диалектике. Ваша же система — железобетонная мертвая конструкция, которая отняла у человека все и закрыла ему пути возвращения к самому себе.
— Да бросьте вы! — сделал гримасу Зельбсманн. — Удивляюсь своему терпению.
— Вас удивляет не собственное терпение. Вы не уверены в своей правоте, разговаривая со мной, пытаетесь подсознательно убедить себя в ней.
— Оставим это. Я сам знаю, что мне делать.
— Безусловно, знаете: всех уничтожить, оставив часть, элиту.
— Я вам аплодирую… Итак, вы, Христюк Иосиф, как монах-философ, отправились вдруг по селам проповедовать свои взгляды; я слышал, божьих людей в народе уважают, и мне неудивительно, почему вас везде хорошо принимали. Не поняв сути вашей теории, наши агенты на всякий случай включали ваши откровения в свои отчеты, рассчитывая, что мы здесь, наверху, разберемся. Простые смертные слушали вас, разинув рты: еще бы, хоть и не хлеб обещает и не приход красных, но, что ни говори, слово божьего человека размягчает, облегчает душу, толпу всегда увлекают непонятные идеи, они нужны ей для оправдания своего прозябания. Видите, сколько бумаг накопилось, удивляюсь, как вас случайно не пристрелили. Да… Так, значит, что вы проповедовали? Ну, болтовню о жизни и спасении души я опускаю. Ничего интересного: Ближе к делу. «Война закончится только тогда, когда каждый убьет ее в себе самом». Комментарии отсутствуют, образование не позволило агенту углубиться в содержание ваших проповедей. Потрудитесь уж сами растолковать.
— Мне показалось, суть их вы как раз и поняли. Когда каждый для окончания войны сделает все от него зависимое, тогда вопрос о войне отпадает сам собой.
— И какой путь вам видится?
— Уничтожать вас.
— Да. Есть и об этом. «Враг, пришедший к нам, заслуживает смерти, и каждый имеет моральное право его убить. Враг знал, куда шел, он сам себе выбрал смерть. И это оправдывает каждого, кто уничтожает фашистов». Записано верно?
— Содержание схвачено.
— Однако скажите, нашлись люди, полностью уяснившие то, что вы им глаголили, способные подняться на вершину своего «я», открыть себя?
— Важно зерно посеять, а всходы взойдут.
— Это коммунистическая пропаганда, она вам не к лицу. Отвечу вместо вас — не нашлись, и искать бесполезно: кто должен был стать самим собой, тот стал, а ком не дано — знать, не дано. Если бы вы для порядка занимались полезным делом, скажем лечением коров, или делали вид, что, заговаривая, изгоняете хворь, — тогда другое дело. А так — кому вы решились вдалбливать в голову постулаты вашей философии? Темному мужику? У него жена, дети, хозяйство, в лучшем случае он вас примет за юродивого, пусть у него в душе что-то посветлеет, но жить-то он будет по-прежнему, возиться возле скотины и мастерить детей. Все!
Зельбсманн налил в стакан воды, глотнул пилюлю и запил. Плеснул и во второй стакан.
— Вот, прошу. Остыньте.
— Но вы ведь не спросили меня о главном: почему я пошел по селам?
— Действительно, почему? Спасибо, что напомнили.
— Видите ли, вам этого не понять, я, честно говоря, и сам пришел к такому решению в большей степени интуитивно. Да, я, в самом деле, признаю только мир, вместившийся во мне, но ведь его объем не обязательно должен ограничиваться моей физической оболочкой, телом. Я включаю в свой мир все, что в состоянии объяснить ум: космос, землю, ее людей. Это — мое «я». В какой-то миг понял, что себя, Иосифа Христюка, я изучил достаточно полно, но еще не осознал своего настоящего «я», то есть и тех, других, входящих в мой мир. Я пошел узнавать…
— Ну-ну!..
— …узнавать и в меру своих сил делать так, чтобы мир в полном объеме моего «я» соответствовал своему назначению.
— Картина проясняется. Стало быть, в вашем мире для нас места не нашлось, поэтому вы и…
— Да.
— Гм. Послушайте! Ведь я тоже существую. В том мире, который вы охватываете собой. Значит, рассуждая логически, я объективно вписываюсь в ваш мир, в ваше «я», подтверждением чего и является эта наша беседа.
— Все логично и закономерно. Вы существуете реально, но лишь как антипод, как субстанция, которую необходимо преодолеть на пути к самоопределению.
— Будем считать, — предложил Зельбсманн, — все точки над «и» мы расставили. Осталось прояснить некоторые детали. Следствие, обвинение, приговор вас не интересуют…
— Я человек свободный и, если потребуется, сам найду способ распорядиться своей жизнью.
— Несомненно. Позволю себе последний вопрос: с какой целью вы назвались Михайличем? Неужели до такой степени разуверились в собственных идеях, что, отчаявшись, бросились очертя голову, рассчитывая таким образом сохранить за собой последний шанс на проявление своего «я»? Настоящий Михайлич сидит у нас. И ваш поступок еще больше усугубил его положение.
— У Михайлича хватит сил выстоять и без моей помощи. Для меня же главное — выкатить камень на гору. А там…
— Камень слепой, дороги не выбирает.
— Но зрячие его видят.
— А слепые? Допустим, лучшей участи мы не заслужили, мы намеренно останемся слепыми, а как быть тем, кого вам не удалось просветить? Сколько тысяч заложников? Им-то ваши рассуждения и прекрасные метафоры, уверен, были и останутся безразличны. А вам лично? Особенно, когда вырвем кусок из вашего мира: крестьяне, их жены и дети, которых мы вскоре расстреляем… Вы ведь тоже приложили руку к их гибели, руководствуясь самыми благими намерениями. Не самоубийство ли это для вас: своими руками разрушать мир? Вот над этим, уважаемый, и подумайте. А заодно и о том, действительно ли переход к смерти является последней вершиной…
7
Вступление армии в город означает свершившийся факт, закономерность, естественность, которую такой и воспринимаешь, поэтому, когда красные с песнями, усыпанные цветами, не маршировали, а словно плыли по старой брусчатке Львова, в бытии Иосифа Христюка, собственно, ничего и не изменилось. И чуть раньше, когда профессор Хайдукевич накануне вступления красных собрал своих самых способных, подававших наибольшие надежды учеников и сказал, что отныне студентам будут вбивать в головы марксизм и для них начнется не постижение смысла и истины, а учеба… Даже тогда Иосиф Христюк не пытался представить, как отныне сложится его судьба — судьба его, он убедил себя, всегда была с ним, она была вечной. Иосиф ушел из университета, никого не поставив в известность, без заявлений и демонстраций, просто ушел — и не из нежелания изучать марксизм: их классиков, поскольку запрещали, он начитался достаточно, — уйдя, сам удивился, почему не сделал этого раньше. В душе он испытывал скуку, но чтобы покончить с ней, не хватало какого-то толчка, без сожаления расстался даже с профессором Хайдукевичем.
В следующий вечер, когда на улице остановил Турпак, высокий, полный, с черными длинными волосами, в черном тонком, под горло, свитере, Иосиф в душе усмехнулся. Раньше подобных мелочей он вовсе не замечал, а теперь они бросились в глаза: возможно, потому, что какой-то период в жизни закончился и — еще неопределенно — начинался другой. Все еще было шатким и неясным, вот мелочи и не ускользали от внимания, заполняли пустоту, которую сознательно оберегал, пребывая в сладостном предчувствии надвигавшегося океана мысли, — радовался отшлифованным, размытым дождями каменным прямоугольникам брусчатки, незнакомой надписи на древней кладке зданий, голубям, сидевшим на загаженных карнизах; потому-то и отметил, что Турпак высокий и полный, в черном свитере. А вообще-то таким он, кажется, был всегда: вспомнились стихийные дискуссии в университете, где-то и дело вспыхивал украинско-польский вопрос, и они превращались в сборища; голос Турпака, тонкий, но хорошо поставленный, слишком гулко звенел тогда в коридорах; еще помнится, Турпака изгоняли из университета, но он появлялся снова, нисколько, кажется, не меняясь…
Турпак обнял его за плечи, весь какой-то теплый, ласковый и домашний, и, почти касаясь губами уха, зашептал:
— Молодец, Иосиф, воистину молодец! Лучшая часть украинской интеллигенции оставила университет, и списки протестантов уже ходят в городе среди верных людей, — ты тоже попал в эти списки. Не нужна нам такая наука, скоро мы дождемся своего часа…
Иосиф почти не прислушивался к этому пустословию, его немного раздражало, что Турпак крепко прижал к себе — идти было не совсем удобно. А тот водил и водил Иосифа по улице — сверху вниз, снизу вверх, улица здесь тихая, вечерняя — и шептал о судьбе Украины, которая воспитывает своих мыслителей, но сначала солдат, сокрушался: мол, напрасно Иосиф столько времени якшался с поляками, испокон веку душившими нацию, но Турпак скажет, где следует, что то была ошибка молодости, с Иосифа снимут любые подозрения, поскольку он оставил университет; сожалел, что не немцы первыми вступили во Львов, всего на несколько десятков километров опередили их схидняки, рассказывал, какое это впечатляющее зрелище, когда в скрытном месте, в одном из яров за городом, вспыхивают сотни факелов, освещая фигуры солдат свободы… У Иосифа даже плечи онемели, и он с облегчением вздохнул, когда, приведя его к самой квартире, Турпак наконец-то ушел, пообещав на прощание всяческую помощь и поддержку.